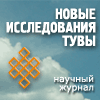В Кызыле, в
уютном гостеприимном доме на улице Пролетарской, живет красивая пара: Георгий
Ефимович и Зинаида Владимировна Лукины. Шестьдесят пять лет они вместе, и до
сих пор Зина смотрит на своего Гошу влюбленными глазами. И есть за что: он и в
восемьдесят девять лет такой же, как в молодости, озорной и юморной, так же
полон добра и оптимизма.
В Кызыле, в
уютном гостеприимном доме на улице Пролетарской, живет красивая пара: Георгий
Ефимович и Зинаида Владимировна Лукины. Шестьдесят пять лет они вместе, и до
сих пор Зина смотрит на своего Гошу влюбленными глазами. И есть за что: он и в
восемьдесят девять лет такой же, как в молодости, озорной и юморной, так же
полон добра и оптимизма.
Про Георгия Ефимовича, на
которого одна за другой две похоронки приходили, никак нельзя сказать «дважды
похороненный». Можно только так – дважды живой. И не дважды даже, а трижды,
потому что и после войны не сдался тому последнему осколку, который до сих пор
прячется в его теле. Только два боя в августе сорок четвертого на его долю
выпало, но Гоше их на всю оставшуюся жизнь хватило.
Круткий да вёрткий
– Георгий Ефимович,
гляжу на вас с Зинаидой Владимировной и понимаю, что именно такой старости
пожелала бы и для себя.
– И дай бог каждому
прожить так, как прожили мы с Зиной. Трех достойных детей вырастили, семь
внуков у нас. А правнуков – аж шестнадцать: старшей Тане двадцать лет, младшему
Егорушке – два годочка.
В одиночестве с Зиной ни
дня не кукуем: все вокруг нас, все заботятся, хоть и живут отдельными домами. А
больше всех – старшая дочь Татьяна, потому что от нас неподалеку живет. И приготовит,
и постирает, и помоет. Я вот как пять лет назад сел в инвалидное кресло, так и
сижу теперь сиднем.
А до этого сам со всем
управлялся. Сызмальства круткий да верткий – весь в отца. Он такой же
неугомонный был.
– Из каких же мест род
таких крутких да вертких пошел?
– По соседству с Тувой –
из деревни Жербатиха Минусинского уезда Енисейской губернии, предки мои в 1865
году одними из первых деревню эту заселили. А приехали туда с Перми.
Потом дед мой Осип
Савельевич Лукин вместе со своими братьями Андреем и Иваном переехал в село
Кочергино, а старший брат Карп остался в Жербатихе. Переехали потому, что в
Кочергино лучше жилось: пашни свободной много было. Шестеро детей у деда с
бабушкой было: три девочки, которые в младенческом возрасте умерли, и три парня
– Демид, Феклист и Ефим.
А семья матери моей
Анисьи Ивановны, в девичестве Смирновой, из Костромской губернии в Сибирь
перебралась.
У тяти и мамки двенадцать
душ детей было. Половина еще в младенчестве умерла, а шестеро живы остались:
Елена, Мария, Галина, Марфа, я и брат Владимир. Все мы в Кочергино родились.
И вот ведь как вышло: не
только характером я в тятю пошел, но и судьбу его повторил.
– В чем же повторение
судеб отца и сына?
– Так нас обоих живыми
похоронили. Только отца – один раз, а меня – дважды.
Тятя мой – Ефим Осипович
– тоже солдат: Первой мировой войны, в 1914 году его призвали, и целый год от
него вестей не было. Решили, что убитый, и отпели раба божьего Ефима в сельской
церкви. А потом, месяца через три, весточка от него пришла – жив.
Домой он под самый конец
войны вернулся – крепким инвалидом. Правая нога у него здорово хромала, а
правая рука плетью висела. К тому же и припадки сильные били. Несмотря на
увечность, жадным до работы был. Одной рукой со всем хозяйством управлялся.
– Велико ли хозяйство
было?
– Немалое по меркам
деревни нашей: три лошади, две коровы. Сеялка да веялка. Большой надел земли:
сажали пшеницу, овес.
Отцу брат его Феклист
помогал. У Феклиста одна лошадь была, он на ней товары из города в деревню на
продажу возил. В тридцать четвертом его раскулачили и сослали в Усть-Можарскую
трудовую колонию, она неподалеку от нас находилась, в Артемовском районе.
Деревенские ее Можаркой называли.
Его жена, тетка Дуня с их
приемной дочерью Крестей потом вернулась, а дядька в 1940 году умер там от
голода. А ведь здоровый, крепкий такой был мужик.
Колхоз «Ранний восход»
– Как же вашу семью
первая волна коллективизации не задела?
– А с тятей колхозники
связываться боялись. Горячего нрава был мужик. Он и одной левой рукой мог здорово
треснуть. Поэтому нас и не задевали. И только после его смерти в 1936 году
мамке моей пришлось в колхоз вступить.
В Кочергино вначале два
колхоза было: «Ранний восход» и «Вторая пятилетка». Потом один объединенный
«Ранний восход» остался.
Тятя перед смертью болел
сильно, сказались ему фронтовые раны, пришлось и последнюю корову продать,
остались мы и без кормильца и без кормилицы. При вступлении в колхоз
потребовали отдать лошадь, последнюю, что у нас осталась. Отдали, а кошевку,
это сани такие со спинкой, жалко было отдавать. На сеновале спрятали, сам и
помогал ее сеном забрасывать. А потом сам же и разболтал об этом конюхам. Они
пришли ночью и укатили кошевку. А нам и невдомек. Потом смотрим: председатель
колхоза на ней раскатывает.
Трудно было в колхозе.
Мне, как тятя помер, только десять стукнуло, а за старшего мужика в доме
остался. Брат Вовка – младше меня, пацаненок совсем. А с сестер какой спрос?
Выживали, в основном, за счет своего огорода и скота. Держали трех овечек, двух
свиней, гусей. Наша семья еще не очень бедствовала, а вот рядом с нами мордовка
Прасковья Мартынова жила, так ее дети только картошкой питались. И таких
полдеревни было. Но и мы, в конце концов, проели свою живность.
– А как со школой,
учиться довелось?
– Довелось немного: всего
четыре класса и окончил. У нас в селе четырехлетняя школа была, а в Шошино,
деревне в двух километрах от нас, семилетка. Кто закончил четыре класса, туда
ходил. Но в тот год, когда я четырехлетку окончил, был такой приказ, чтобы
детей из других сел не принимать на учебу. Вот нас, двадцать пять кочергинских
учеников, и выгнали из Шошино.
Мне двенадцать тогда
было. Пришлось нам вместо школы на пашню идти, боронить да пахать. Норма тогда
такая была, что в день нужно один гектар земли вспахать. За это получали один
трудодень. Спали в амбарах, в которых нас ночью клопы поедом ели. Почитай, все
время, кроме зимы, в поле проводили. Домой-то ехать далеко. Вот так и жили.
А в начале сорок
третьего, зимой, выучился я на тракториста, курсы в нашем селе были организованы.
Весну и лето – уже не с сохой за лошаденкой, а на тракторе. А там и на войну
призвали.
В семнадцать годков
– Вы ведь в двадцать
шестом году родились. Значит, призвали вас семнадцатилетним?
– Так точно! Родился 17
февраля 1926 года. Призвали в октябре сорок третьего. Семнадцать годков мне
тогда было. С нашего села еще до войны начали парней пачками в армию призывать.
Думаю, уже тогда знали, что война будет.
А в октябре сорок
третьего посадили нас, двенадцать кочергинских парней-одногодков, на телегу и
привезли в Курагинский райвоенкомат. Там врачи нас маленько осмотрели. Затем
отправили на абаканский вокзал, посадили на поезд, и – в Красноярск. А оттуда –
в городишко Заозерное. Кормили там хорошо, горбуши – навалом. А вот померзнуть
пришлось.
Морозы в тот год ранние
были, невозможно холодно. А одежонка на нас плохонькая. Выдали нам бушлаты,
брюки-галифе, гимнастерки, а всё старое, перелатанное. Спали в казарме на
двести человек.
До марта 1944 года
обучали нас военному делу. С утра и до вечера ползали по снегу туда-сюда, окопы
рыли. Там же меня определили в пулеметную роту, показали, как с пулеметом
обращаться.
Потом в теплушках нас на
запад отправили, привезли в город Кингисепп Ленинградской области. Я и мои
товарищи пополнили пулеметную роту в составе 108 гвардейского стрелкового полка
43 стрелковой дивизии третьего Прибалтийского фронта.
–  Готовясь к нашей
беседе, постаралась теоретически изучить пулемет и узнала, что его расчет из
пяти человек состоит. Вы кем были?
Готовясь к нашей
беседе, постаралась теоретически изучить пулемет и узнала, что его расчет из
пяти человек состоит. Вы кем были?
– Молодец, хорошо
подготовилась. В личном составе пулеметного расчета действительно пятеро:
командир, два наводчика и два подносчика снарядов. Я наводчиком был.
Пулеметчики своим огнем
пехоту поддерживали. Нас в бою сбоку ставили, чтоб по своим не попадали. Лежишь
и ждешь команду. В пулеметных лентах – по двести пятьдесят патронов. Как
жахнешь, всё вокруг горит. А сам пулемет «Максим» тяжеленный, судите сами,
двадцать четыре килограмма весит, его станок – тридцать четыре, бронещит –
десять, да ленты с боевыми патронами по десять килограммов каждая.
Кому первый бой, а кому последний
– Первый свой бой
помните?
– Как не помнить. Первый
мой бой был за город Выру, что в Эстонии. Наша дивизия туда из Пскова через
Чудское озеро дошла. Дней десять пешком туда шли.
Только заняли огневую
позицию, дали несколько очередей, как с той стороны снаряд прилетел и взорвался
рядом с нашим пулеметом. И земляка-одногодка моего, Сережку Четвертакова
осколками от того снаряда убило. Вот так: кому первый бой, а кому он же и
последний. Восемнадцать годков только и пожил дружок мой.
Я-то живым остался за
счет щитка пулемета, он от осколков прикрыл. Оглушило только. Как пришел в
себя, смотрю: Сережа рядом лежит, ногами как-то странно дрыгает. Я было к нему,
а тут команда: «Вперед!» Пулемет-то наш снарядом разворотило, так автомат
схватил и – вперед, в атаку.
– С криком «За Родину,
за Сталина!» бежали?
– Ну, это вы фильмов
насмотрелись. Конечно, и такое кричали, но чаще бывало, что с матерками шли,
это я сам слышал.
Почему, думаете, в атаку
все поднимались? Ведь каждому жить хотелось, а были среди солдат и трусливые, и
боязливые. И такие, как мы: молодые, необстрелянные, перепуганные, только что
на передовую попавшие. Но если не поднимешься, тебя мигом – под трибунал, а то
и на месте могли расстрелять.
В каждом полку – штрафбат,
в котором были солдаты, в чем-то провинившиеся. Их в первую очередь в бой
бросали, в самое пекло. Кто из этого штрафного батальона живым оставался, того
опять в нормальный отряд переводили. Только никого почти и не оставалось.
Об этом все солдаты знали,
вот матерками сами себя и подбадривали, когда в атаку шли.
– И вы тоже, идя в
первую атаку, матерились, Георгий Ефимович?
– Я – нет. И тогда, и
сейчас не по нутру мне это. «Ура!» кричал и бежал вперед. А в голове только
одна мысль: «Хоть бы не убило».
Внук Алёша, когда
маленький был, всё у меня спрашивал, как живым на войне остался. Отвечал, что
от пуль уворачивался: вот они летят, а я – раз, и в сторону отскочу. Как еще
мальцу объяснишь, что на войне у каждого – своя судьба. И никто не знает: живым
или мертвым сегодня будет.
Хоть и враг, а человек
– Город Выру, за
который вы свой первый бой приняли, 13 августа 1944 года освободили, это я по
военным сводкам уточнила.
– Приятно беседовать со
знающим человеком. А я вам так, с налету, эту точную дату и не сказал бы.
Значит, получается, что я в этот день впервые лицом к лицу живого врага увидел
и в плен его взял.
– Как же это
случилось?
– Выру – городок
небольшой. Дома – в два и три этажа, и все – с подвалами. Как мы его взяли,
командир взвода послал меня один из этих подвалов осмотреть: «Зайди, из
автомата пальни сперва, а потом посмотри, что к чему».
Осторожно так спускаюсь,
даю автоматную очередь. Смотрю, вроде никого, поворачиваюсь, а передо мной –
немец. Он за дверью прятался, вот я его и не приметил.
С поднятыми руками стоит,
здоровый такой, высокий, но в возрасте, лет эдак пятидесяти. Стою,
ни жив, ни мертв. Но чтобы выстрелить, такой мысли
не было. Хоть и враг, а человек ведь, да и безоружный – руки поднял, что
сдается.
Автоматом ему показываю,
мол, иди вперед, а я – за тобой. Вышли, командир меня по плечу похлопал,
дескать, молодец, что пленного взял. А у меня поджилки трясутся.
Приказывает командир
отвести пленного за забор. Неужто на расстрел? Очень мне в него, пожилого
такого, стрелять не хотелось, но если бы приказали, пришлось бы. А как дошли до
забора, увидел, что там уже кучка пленных на корточках сидит. И я своего там
оставил. От сердца отлегло.
Скитания раненого
– А 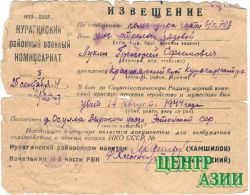 как вышло, что вас
дважды похоронили?
как вышло, что вас
дважды похоронили?
– Дело так было. Как
взяли мы Выру, приказ по дивизии: «Прорвать оборону фашистов под Пылвой». Эти
городки неподалеку друг от друга.
И в первый же день боев
за этот Пылву меня ранило. Немцы под натиском побежали, но в нашу сторону два
снаряда прилетело, и мне правую руку перебило.
Очухался в медсанбате. А
рядом с ним железная дорога проходила. Немцы начали ее с воздуха бомбить, и
нашему медсанбату тоже досталось. Взрывной волной все окна повыбивало, а мне в
поясницу несколько осколков попало.
Врачи потом все их
повытаскивали, но один все-таки прозевали. Жена потом всё ощупывала этот
бугорок, беспокоилась, а он то в одном месте, то в другом. А со временем исчез.
Думаю, что в тело мое этот осколок врос.
В медсанбате дней шесть
пробыл, потом нас в монастырь у озера Ильмень привезли, там как бы перевалочная
база была для раненых. Через две недели – в Ленинград. В ленинградском
госпитале в коридоре был вывешен список тех, кому будут делать операцию. Я в
нем самым последним значился. Но, бах, ночью раненых – в поезд, отправляют в
Читу.
Но до Читы меня не
довезли: кость в руке полопалась и начала гнить. В Свердловске с поезда сняли и
отвезли в местный госпиталь. Восемь месяцев там руку лечили. Чуть заору от
боли, меня сразу на операционный стол: снова руку от осколков кости чистят. Все
страшился, как бы мне ее совсем не отрезали. Но обошлось, слава богу.
И ведь тоже, как у тяти,
вышло: и ему, и мне на войне руку покалечило, и тоже – правую. От локтя до
запястья была у меня обтянутая кожей кость, только годам к пятидесяти она мясом
обросла.
Так вот, пока вся эта
история с ранением да скитанием по госпиталям длилась, родные успели на меня
две похоронки получить.
Первая – о том, что убит
14 августа 1944 года, а я только ранен был шестнадцатого августа. В извещении и
место указано, где я похоронен: деревня Осулла Выгорского уезда Эстонской ССР.
Сестра Елена потом
рассказывала, что когда в конце сентября получила конверт с этой похоронкой,
целый день не могла его домой принести, только под вечер решилась эту страшную
бумажку матери отдать. Елена в войну в Кочергино почтальоном работала – трудная
доля, бабы на нее со страхом смотрели: вдруг и им весть о погибшем несет.
Через неделю весточку от
меня получили, что в госпитале лечусь. А через месяц – вторая похоронка: умер в
ленинградском госпитале от ран.
Мои уж не знали, что и
думать: то ли жив я, то ли помер.
Окончание – в №23 от 26 июня 2014 года.
Интервью Юлии Манчин-оол с
Георгием Лукиным «Трижды живой» войдёт тринадцатым номером в шестой том книги
«Люди Центра Азии», который сразу же после выхода в свет в июле 2014 года
пятого тома книги начала готовить редакция газеты «Центр Азии».
Фото:
1. Георгий
Ефимович и Зинаида Владимировна Лукины, ветераны боевого и трудового фронтов
Великой Отечественный войны: шестьдесят пять лет лет вместе. Республика Тыва,
Кызыл. 23 мая 2015 года. Фото Сергея Еловикова.
2. Анисья
Ивановна Лукина – мать, дважды получавшая похоронки на живого сына, – в центре.
Сидят: ее сын Георгий Лукин с женой Зинаидой. Между супругами – их первенец:
дочка Таня. Красноярский край, Курагинский район, село Кочергино. Август 1954
года.
3. Извещение о
смерти, называвшееся в народе похоронкой, пришло в 1944 году в село Кочергино
Курагинского района Красноярского края: «Ваш сын,
стрелок, рядовой Лукин Григорий Ефимович в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 14 августа 1944
года».
В извещении,
пришедшем на живого бойца, ошибочно указано и его имя: Григорий вместо Георгия.
Документ хранится Лукиными как большая семейная реликвия.