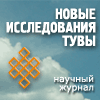Шестнадцать
ступенек крыльца четырехэтажного Дома
печати, две тяжелые двери, которые нужно
открыть, поворот направо по коридору,
потом вверх – двадцать две ступеньки
лестничного пролета до второго этажа,
там редакция «Шына» – «Правды». Еще
пролет – третий этаж, здесь «Тувинская
правда», четвертый – газета «Центр
Азии», родной кабинет. Пробегаю этот
вертикальный стадион на одном дыхании,
не останавливаясь. А вот для моей
сверстницы и коллеги Галины Маспык-оол
путь даже до второго этажа становился
преодолением ради профессии: добиралась,
опираясь на костыли и здоровую левую
ногу, отвергая помощь встречных:
«Четтирдим – спасибо, сама».
Шестнадцать
ступенек крыльца четырехэтажного Дома
печати, две тяжелые двери, которые нужно
открыть, поворот направо по коридору,
потом вверх – двадцать две ступеньки
лестничного пролета до второго этажа,
там редакция «Шына» – «Правды». Еще
пролет – третий этаж, здесь «Тувинская
правда», четвертый – газета «Центр
Азии», родной кабинет. Пробегаю этот
вертикальный стадион на одном дыхании,
не останавливаясь. А вот для моей
сверстницы и коллеги Галины Маспык-оол
путь даже до второго этажа становился
преодолением ради профессии: добиралась,
опираясь на костыли и здоровую левую
ногу, отвергая помощь встречных:
«Четтирдим – спасибо, сама».
Галина
Дулушовна Маспык-оол – особый человек
в Союзе журналистов Тувы, региональном
отделении Союза журналистов России. В
ее биографии – работа в районной газете
«Улуг-Хем», республиканских «Шын» и
«Тыванын аныяктары». И еще – 9 мая 2005
года, когда автомобильная авария
разделила судьбу пополам, поставив
перед выбором: сдаваться перед
неподвижностью или продолжать жить и
творить. Она предпочла второе. Два
агальматолитовых пера, высшие награды
республиканских конкурсов журналистского
мастерства, – свидетельства не только
ее верности профессии, но и силы духа.
«А
небо всё равно синее» – удачный, точный
заголовок нашла Галина Дулушовна для
своего мемуарного очерка, подготовленного
специально для газеты «Центр Азии» и
проекта воспоминаний ветеранов Союза
журналистов Тувы.
Надежда
Антуфьева,
главный
редактор газеты «Центр Азии»,
член
правления Союза журналистов Тувы
Чип
добра и любви
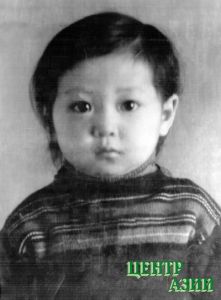 Память
моя проснулась, когда приснилась
ярко-рыжая огненная лиса – богатая,
красивая. Только огромные глаза злые.
От страха закричала, забилась в своей
кроватке. Родители не знали, как успокоить.
Позвали бабушку Баазан, тетю Байыр, даже
шамана. При свете керосиновой лампы в
сизоватом дыме артыша, по поверью
отпугивающего злых духов, урывками,
сквозь сон, проплывали озабоченные лица
близких.
Память
моя проснулась, когда приснилась
ярко-рыжая огненная лиса – богатая,
красивая. Только огромные глаза злые.
От страха закричала, забилась в своей
кроватке. Родители не знали, как успокоить.
Позвали бабушку Баазан, тетю Байыр, даже
шамана. При свете керосиновой лампы в
сизоватом дыме артыша, по поверью
отпугивающего злых духов, урывками,
сквозь сон, проплывали озабоченные лица
близких.
Эта
ночь дала чувство защищенности, словно
в меня на годы вперед вживили чип добра
и любви, дающий силу, уверенность в себе
и помогающий в дни невзгод вставать и
снова идти по жизни. На целую жизнь с
лихвой хватило той заботы и ласки,
которой окружили меня в детстве родные.
Как
и Большая река – Улуг-Хем, бежит река
моей жизни. Впервые увидела ее на руках
у отца: влажно золотились камушки,
суетливо разбегались в разные стороны
мальки, а над всем этим – бездонное
синее небо. Незабываемая нежная красота
моего детства.
Теперь
прихожу на берег реки с детьми и внучками.
Так же величественно несет свои воды
Енисей, напоминая об утекающем времени.
И всё чаще задумываюсь: кто я и зачем 12
октября 1957 года пришла в этот мир?
Коза
в зеркале и запретная арака
Жили
мы в селе Арыг-Бажы Улуг-Хемского района.
Папа – Дулуш Бегзиевич Биче-Шыыр – был
механизатором, мама – Сондуй Онгар-ооловна,
работала прачкой в школьном интернате.
Когда
родилась я – долгожданный и, как потом
оказалось, единственный ребенок в семье,
весь левый угол большой комнаты дома
был оборудован под детскую: узкая
железная кроватка, рядом маленький
столик и детские табуретки.
На
столике – куклы, неваляшка, большой
плюшевый медвежонок, кубики, а еще –
бочонки для игры в лото, шашки, шахматы.
Позднее отец принес старую школьную
доску, распилил на две части: одну
половину укрепил на стене, другую – во
дворе, на радость всем соседским
ребятишкам, мы вместе играли около нее
в школу.
К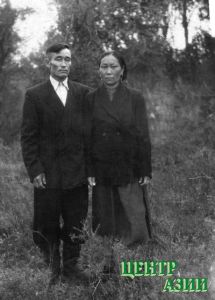 роме
игрушек, были забавные живые друзья
детства: в конце декабря папа приносил
в дом новорожденного теленка, оставлял
в тепле на несколько дней, потом наступала
очередь нескончаемых козлят и ягнят.
роме
игрушек, были забавные живые друзья
детства: в конце декабря папа приносил
в дом новорожденного теленка, оставлял
в тепле на несколько дней, потом наступала
очередь нескончаемых козлят и ягнят.
Утром,
когда в дом приводили по пять коз,
начинался шум и гам. Козлята истошно
блеяли, зовя мам, окрепший теленок
пытался бродить меж ними, напуганные
куры, которые тоже переживали с нами
холодное время, отчаянно кудахтали.
Лишь петух воинственно хорохорился.
А
самая решительная коза, подойдя к
шифоньеру с большим, до пола, зеркалом,
принимала боевой настрой и с маху ударяла
рогами в свое отражение. Напившись
материнского молока, козлята дружно
брали разбег в кухне, мчались в зал, по
ходу вскакивали на кровать, потом на
диван и опять неслись на кухню. И так
каждую зиму.
К
своим заботам папа добавил еще одну –
купил трех поросят. Вырыл для них
землянку, раскидал внизу солому, сделал
деревянный потолок, а сверху замаскировал
копной сена, чтобы этот свинарник не
заметили проверяющие: в то время людям
не разрешали держать в личном хозяйстве
много живности.
Русские
друзья научили отца солить сало. Он
многое делал первым в нашем селе: начал
топить печку углем, купил велосипед, а
самое главное – научился не только
говорить, но и писать, читать по-русски.
Из
запретного помню, как готовили араку –
молочную водку. Тувинский самогонный
аппарат напоминает забавную куклу. На
большой напоминающей пиалу чугунной
чаше сидит бочка с носиком, на ней, как
шапка, маленький чугунок для воды,
основательно укутанный плотной тканью.
Горят
дрова в очаге, в чаше кипит хойтпак –
заквашенное молоко. Всё пахнет, пыхтит
и капает. Сначала появляется запах
сухого дерева, потом немножечко пара,
следом – одна капля, другая. Капли
выстраиваются в струйку, которая
постепенно набирает силу.
Пока
на улице светло, играю на улице и зорко
слежу: если появится незнакомый, надо
быстро сообщить отцу. Трижды наполняли
котел хойтпаком, за вечер выходило три
литра араки.
Пристройка
к дому, в которой секретно готовили
араку, просторный двор, где с баночкой
для доения гонялась за козами, большая
лиственница, верхушечку которой оторвала
молния – всё это не обветшало в моей
памяти.
Уплывшая
красная туфелька и урок с плевками
Папа
любил радовать дочку. Яркая картина
детства: мне пять лет, жду его возвращения
из райцентра – города Шагонара.
Вот
вдали, за лесом, закрутилась пыль, вскоре
показался маленький юркий автобус.
Подъезжает к остановке, выходят пассажиры,
последним, не спеша, отец. Берет меня за
руку, идем домой. В руках у папы сумка,
а в ней точно что-то лежит. Пытаюсь
узнать: что же? Но он только загадочно
улыбается. Дома вынимает из сумки
картонную коробку: смотри. Открыла и
обмерла – красные туфельки с черными
кнопками по бокам. Примерила, как раз
впору.
Даже
не стала есть вкусности, которые отец
тоже купил в городе, помчалась к тете
Байыр, чтоб покрасоваться перед
двоюродными сестрами. Они жили за
небольшим леском с речушкой, которая
разделяла две главные улицы нашего
села. По дороге несколько раз
останавливалась, снимала туфли, любовалась
ими, протирала, опять надевала и кружилась
в радостном танце.
Наконец,
добралась до речушки, а когда перепрыгивала
через нее, одна туфелька соскользнула
и упала в воду. Бежала следом, пытаясь
поймать, но она красным корабликом плыла
всё дальше, пока не добралась до места,
которого боялась детвора и называла
водопадом: вода падает с метровой высоты,
а внизу – пенные брызги.
Сидела
и ждала, надеясь на чудо: вдруг папин
подарок выплывет из этой круговерти?
Но оттуда появлялись только щепки,
листья, потом вынырнул жук. Моей обновки
не было.
К
вечеру отец нашел меня у водопада под
большой лиственницей – зареванную, с
одной туфелькой в руке. Ночью спала
беспокойно, а проснувшись, так переживала,
что родители стали беспокойно
переглядываться: как бы не заболела.
На
следующий день папа специально поехал
в Шагонар и привез мне новую пару –
точно такую же.
Бывало,
что отец и наказывал. Предпочитала
водиться с мальчишками, гонять с ними
на велосипедах. У них научилась лихо
сплевывать через зубы. Как-то сидим дома
– обедаем. Мне захотелось показать свое
мастерство. Подошла к умывальнику,
плюнула, потом снова. Когда возвращалась
за стол в третий раз, папа встал, за плечи
развернул к умывальнику и твердо сказал:
«Стой здесь и плюйся, сколько душе
угодно. Не мешай нам обедать». У мамы –
слезы на глазах, а ему хоть бы хны.
Минут
тридцать до ухода родителей на работу
стояла и плевалась, пока во рту не
пересохло. И усвоила урок: навсегда
рассталась с этой дурной привычкой.
Когда
вижу, как взрослые люди смачно плюются
на улицах Кызыла, недоумеваю: неужели
у них не было отцов, сумевших наглядно
показать недостойность такого поведения?
Мой папа сумел.
Журавлиный
поклон
Д орога
моя в мир книг началась со сказок. Их
долгими зимними вечерами читала вслух
мама. Особенно завораживала история
про хана Кезер-Мергена. «С одной стороны
десять девушек, с другой тоже десять
причесывали дангыну». Пыталась
представить: как же выглядит эта
удивительная принцесса с такими шикарными
волосами?
орога
моя в мир книг началась со сказок. Их
долгими зимними вечерами читала вслух
мама. Особенно завораживала история
про хана Кезер-Мергена. «С одной стороны
десять девушек, с другой тоже десять
причесывали дангыну». Пыталась
представить: как же выглядит эта
удивительная принцесса с такими шикарными
волосами?
Или
вот это: «Каждое утро подданный кланялся
повелителю, словно журавль». Безумно
интересно. Надо попробовать. И по утрам,
проснувшись, отвешивала журавлиный
поклон сначала отцу, потом маме. Нас
этот ритуал очень веселил.
Прекрасным
сказочником был дедушка Тумат Давааевич
Чамбал из рода ак-туматов, муж родной
тети моей матери. В его доме родители
оставляли дочку, когда уходили на работу.
Вечерами дед ножиком вырезал из кусочков
дерева игрушки – длинноухого зайчика,
резвого коня – и тихим голосом рассказывал
сказки, разные истории про животных.
Под них частенько засыпала возле дедушки.
Приходил папа, ласково говорил: «Козлятки
не спят, плачут, зовут тебя». И уносил
домой.
Вместе
с дедом ловила сусликов. Он потом снимал
шкурки и сдавал, их принимали за пять
копеек за штуку. Иногда уходил в тайгу,
приносил белок и варил мясо во дворе на
костре. Бабушка Баазан, проходя мимо,
зажимала нос.
Еще
пуще гневалась, когда мы варили курицу.
Однажды дед захотел подшутить и велел
мне отнести бабушке курятину. Она так
рассердилась, так замахала на меня
руками! Оказывается, ей, рожденной в год
курицы, нельзя было есть ее мясо.
Последний
подарок отца
Папа
 был знатным книгочеем. Когда ездил в
Шагонар, обязательно заходил в книжный
магазин, и покупал новинки на русском
и тувинском языках, так что у нас
образовалась хорошая домашняя библиотечка.
был знатным книгочеем. Когда ездил в
Шагонар, обязательно заходил в книжный
магазин, и покупал новинки на русском
и тувинском языках, так что у нас
образовалась хорошая домашняя библиотечка.
По
его примеру и я пристрастилась к чтению.
С особенно увлекательными книгами не
могла расстаться и ночью. Когда родители
засыпали, читала под одеялом, освещая
страницы фонариком: «Четвертая высота»
Елены Ильиной, «Сын полка» Валентина
Катаева, «Васёк Трубачев и его отряд»
Валентины Осеевой.
Как
и отец, была постоянной читательницей
нашей сельской библиотеки, разместившейся
в маленькой комнатке при клубе. А когда
училась в пятом классе, библиотекарь
Александра Тюлюшовна Сюктермаа огорчила
нас, сказав: «Дорогие мои, вы прочли все
книги, которые у нас есть, теперь могу
предложить только подшивки журналов».
На
мой двенадцатый день рождения – 12
октября – папа подарил настоящие
наручные часики. Только приходить в них
в школу учительница запретила, строго
сказав: тебе еще рано.
Это
был последний подарок отца. Летом он
ушел из жизни. Мало кто в селе знал, что
отец тяжело болел. Ночами не спал от
боли, мучаясь, бродил по дому. Долго
лечился, ездил на курорты за Саяны, но
рак пищевода не дал шанса.
У
ледяной проруби
Когда
папы не стало, не сразу осознала, что
его больше нет. Но постепенно стало
пусто и холодно в доме и во дворе. Двух
наших коров украли. Мама разрывалась
между работой и хозяйством, не успевала.
Январским
воскресным днем, когда она работала, я
спохватилась: у нас нет ни капли воды.
Сунула ноги в тяжелые подшитые валенки,
поверх зимнего пальто и шапки повязалась
большим платком, затянув его концы за
спиной, поставила тяжелую флягу на санки
и пошла к проруби. Увязая в снегу, стараясь
не выбиться из проложенной трактором
колеи, долго шла под мохнатыми елями, с
которых в полной тишине раздавалось
пугающее карканье ворон.
У
проруби, к которой ходило всё село, от
расплескивающейся воды образовалась
ледяная горка. Забравшись на нее,
наклонилась и, стараясь не упасть в
темную воду, ковшиком черпала ее,
постепенно наполняя флягу. Закрыла
крышкой, но тут сани, не удержавшись,
помчались вниз и ударились о дерево.
Фляга
опрокинулась, вся вода вылилась. С трудом
опять втащила ее на санях в горку. Сил
уже почти не было. Слезы превращались
в льдинки, но я, стоя на коленях, всё
черпала и черпала ледяную воду.
И
тогда впервые по-настоящему осознала:
папы больше нет, он не придет, не поможет,
не защитит. Теперь всё надо делать без
него: и учиться, и работать, и жить. Самой.
Задание
по литературе: встретить рассвет
Ш колу
полюбила с первого дня в ней. Хотя
поначалу и пришлось помучиться.
Выяснилось, что я немного не такая, как
все – левша.
колу
полюбила с первого дня в ней. Хотя
поначалу и пришлось помучиться.
Выяснилось, что я немного не такая, как
все – левша.
В
то время даже в этом нельзя было быть,
не таким, как все, и в школе всех левшей
обязательно переучивали на правшей.
Первый учитель Биче-оол Туматович Сагды
из урока в урок стоял возле парты и
крепко сжимал мою левую ладошку, чтобы
карандаш или ручка не перекочевали в
нее. Переучил, пишу правой рукой, но и
левой тоже могу.
Все
учителя в нашей Арыг-Бажинской восьмилетней
школе были молодыми, энергичными. Анай
Онан, Валерий Намчак-оол, супружеские
пары: Алдын-оол и Александра Серены,
Кара-оол и Надежда Шалыки, Монгуш и
Надежда Тановы, Чаш-оол и Зоя Сунгарапы,
Ян-оол и Ирина Оюны.
Особенно
выделялась преподаватель русского
языка и литературы, Надежда Семёновна
Попченко. Она после окончания пединститута
приехала из Томска, и учила нас три
положенных для специалистов, распределенных
в сельскую местность года – с шестого
по восьмой класс. Ее назначили нашим
классным руководителем.
Всё
мне нравилось в обожаемой учительнице:
ясные большие глаза, копна каштановых
волос, то, как она одевалась. Дефицитная
импортная дубленка, модные сапожки на
высоких каблуках – редкость в городе,
что уж говорить о деревне.
И
преподавала Надежда Семёновна Попченко
тоже по-особенному. Когда изучали
пушкинскую поэзию, предложила вместе
встретить рассвет и сравнить увиденное
с тем, как утро описано в стихотворении.
Еще
затемно двенадцать мальчиков и девочек
из нашего класса – половина, остальные
проспали – собрались у школы. Встреча
рассвета назначена на горе Ленин, имя
вождя выложено на ее вершине большими
камнями. Каждое лето школьников отправляли
белить эти камни, чтобы надпись была
видна издалека.
Но
это летом, а морозным ноябрьским утром
нам бы и в голову не пришло забираться
на гору. Если бы не учительница. Наверху
дул холодный ветер, но мы терпеливо
стояли и ждали рождения нового утра.
Сельские
ребятишки особо не интересовались
солнцем – греет и ладно. А тут! Сначала
узенькая светлая полоса из-за гор, потом
всё шире, и вот постепенно появляется
малиновый диск.
Скрип
снега, идущий от таежной речушки пар,
первые клубы дыма из труб печек родной
деревни, и мы – на самом верху, почти
рядом с солнцем. Это запомнилось на всю
жизнь
Так
же как и пушкинские строки:
Под
голубыми небесами
Великолепными
коврами,
Блестя
на солнце, снег лежит;
Прозрачный
лес один чернеет,
И
ель сквозь иней зеленеет,
И
речка подо льдом блестит.
Вскипячённый
холодец
Очень
любила я Надежду Семёновну и ее
увлекательные уроки. Увлеченно писала
сочинения, которые она читала всему
классу, а одно – «Мцыри и свобода» –
даже отправила на всесоюзный конкурс.
Учительница
занималась с нами литературой и русским
языком не только в школе, но и у себя
дома. В выходные и в сорокоградусные
морозы, когда по радио сообщали об отмене
занятий, мы бежали к ней. Новая интересная
книга, беседа о жизни, а в придачу –
вкуснейшие шоколадные конфеты в чудных
ярких фантиках. Их Надежде Семёновне
присылали родные, и она щедро угощала
нас.
Мы
тоже старались порадовать учительницу:
шефствовали над ней, городской, помогая
в немудреном хозяйстве. В один из дней
такого шефства со мной случился казус.
После уроков зашла к Надежде Семёновне:
помогла занести дрова, растопить печку.
Она снова побежала в школу, а я решила
дождаться возвращения. Поставила на
разгоревшуюся печку чайник, чтобы успел
вскипеть к ее приходу, а потом увидела
у окна металлическую миску, которую
сплошным ровным слоем заполняла
неизвестная еда.
Что
же это такое? Прикинула: «Вчера учительница
ездила в Шагонар, наверное, там купила
эту еду. Видимо, очень вкусная, раз везла
из города». Решила позаботиться: придет
усталая из школы, сразу и чаю попьет, и
горячего поест. Выложила то, что было в
миске, в кастрюлю и поставила на печку.
Представьте
себе мой ужас, когда увидела, что на дне
кастрюли в кипящей воде плавают лишь
тонюсенькие волокна мяса, кусочки
моркови и лука. Неужели таинственная
еда была порченой?
Вернувшаяся
учительница не рассердилась, а рассмеялась
и объяснила, что это такое русское блюдо,
которое едят холодным, оно так и называется
– холодец.
Надежда
Семёновна и любовь свою встретила в
нашем селе – офицера Валерия Бургундосова.
Когда тот во время отпуска приезжал в
Арыг-Бажы навестить родителей, они
познакомились, а потом и поженились,
уехали за Саяны.
Как
Фрося Бурлакова
После
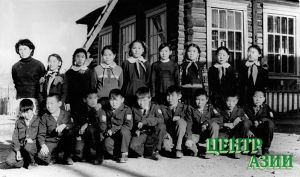 Арыг-Бажынской восьмилетки всем классом
продолжили учебу в Шагонарской средней
школе. На одном из вечеров прочитала
свое стихотворение «Осень» на русском
языке. Опять все завертелось –
преподавательница литературы Валентина
Алексеевна Кудряшова взяла в оборот:
дала задание выступить с докладом,
выучить несколько стихотворений. Вместе
с ней ходила на уроки литературы в
девятые и десятые классы, читала Пушкина,
Есенина, Блока, Маяковского – выступала
в роли говорящего наглядного пособия.
Арыг-Бажынской восьмилетки всем классом
продолжили учебу в Шагонарской средней
школе. На одном из вечеров прочитала
свое стихотворение «Осень» на русском
языке. Опять все завертелось –
преподавательница литературы Валентина
Алексеевна Кудряшова взяла в оборот:
дала задание выступить с докладом,
выучить несколько стихотворений. Вместе
с ней ходила на уроки литературы в
девятые и десятые классы, читала Пушкина,
Есенина, Блока, Маяковского – выступала
в роли говорящего наглядного пособия.
Но
с уверенностью, что знаю и читаю стихи
на русском языке лучше всех, пришлось
расстаться сразу и навсегда, когда в
1974 году, после окончания десятилетки,
поступила на филологический факультет
Кызыльского пединститута.
Документы
подавала на факультет журналистики
Ленинградского государственного
университета, но не прошла по конкурсу:
экзамены, а их принимали в Кызыле, сдала
с одной тройкой по истории. С этими же
оценками приняли на филологический
факультет КГПИ.
Первокурсникам
сразу же предложили определиться: какое
из занятий ФОПа – факультета общественных
профессий, на котором получали
дополнительные знания, их привлекает.
Выбрала, как мне казалось, самое легкое
– художественное слово. И Галина Шаалы
тоже, она приехала из села Шеми
Дзун-Хемчикского района, в общежитии
нас поселили в одной четырехместной
комнате общежития, и мы с Галей сразу
подружились.
Группу
вела Светлана Максимовна Айыжы. На
первом занятии, когда она предложила
всем прочесть свое любимое, продекламировала
отрывок из поэмы «Реквием» Роберта
Рождественского. Жду аплодисментов,
как в школе, а преподаватель говорит:
«Плохо читаешь».
Я,
как Фрося Бурлакова из кинофильма
«Приходите завтра», в большом недоумении:
как так, все хвалили, а тут – критика.
Бедная моя головушка никак не могла
уразуметь, что стихи читают не просто
четко и громко, а с чувством, интонацией,
выражая все эмоции.
Дальше
– больше: Светлана Максимовна дала
задание выучить стихотворение Агнии
Барто «Болтунья». Прихожу на очередное
занятие и заявляю, что не выучила его,
потому что болтливая Лида – плохой
человек.
Педагог
терпеливо объясняет, что поэзия разной
бывает, например – басни, в которых на
примере животных раскрываются недостатки
людей. С ходу ляпаю: «Так ведь они не
человеки!» Девчонки засмеялись над этой
ошибкой, я выбежала из аудитории. И
перестала приходить на занятия.
Пришла
пора первой зимней сессии, в зачетке –
одни пятерки, но нет зачета по ФОПу.
Упросила Светлану Максимовну принять
его и прочла это стихотворение, как
требовалось, вжившись в образ Лиды:
Что
болтунья Лида, мол,
Это
Вовка выдумал.
А
болтать-то мне когда?
Мне
болтать-то некогда!
Драмкружок,
кружок по фото,
Хоркружок
– мне петь охота,
За
кружок по рисованью
Тоже
все голосовали.
А
Марья Марковна сказала,
Когда
я шла вчера из зала:
«Драмкружок,
кружок по фото
Это
слишком много что-то.
Выбирай
себе, дружок,
Один
какой-нибудь кружок».
И
так – до конца, весело щебеча и захлебываясь
от восторга, но отчетливо, как учили.
Зачет получила. Когда сама стала
преподавать, с благодарностью вспоминала
уроки Светланы Айыжы: дикция, хорошо
поставленный голос очень важны для
учителя.
Дорогие
оба
В
пединституте за пять лет из нас должны
были подготовить специалистов широкого
профиля, могущих преподавать одновременно
русский и тувинский языки, их литературу,
поэтому лекции читали педагоги двух
кафедр. Они не просто давали знания, а
были для нас еще и примером поведения
во всём: в манере вести себя, одеваться.
Александр
Чайбарович Кунаа – всегда элегантно
одетый, тактичный, на его лекциях мы
сидели так тихо, что были слышны звуки
фортепьяно, доносившегося из окон
соседнего училища искусств. Ираида
Михайловна Бородич с ее умным, понимающим
и бесконечно добрым взглядом. Высокая,
стройная, вся в черном Галина Ивановна
Принцева. Бичен Кыргысовна Ондар, которая
еще будучи студенткой пятого курса
стала нашим куратором.
Елизавета
Ивановна Коптева – ею так восхищалась,
что не могла насмотреться. Спускается
она после лекции с третьего этажа, а мы
Галей Шаалы следим: куда пойдет. Если
не свернет на втором на кафедру, бежим
вприпрыжку через ступеньки, чтобы на
первом вновь полюбоваться ею. Однокурсник
Олег Шунней, узнав, почему мы носимся
туда-сюда, подшучивал: «Ну, детсад». А
мы всё равно продолжали бегать.
Георгий
Николаевич Курбатский и Доржу Сенгилович
Куулар – их лекции по русскому и
тувинскому народному творчеству
накатывались одна на другую, как волны,
и так захватывали, что не знала, кому
отдать предпочтение.
Как-то
перед первой парой, услышав, как Олег
Шунней галантно спросил у кого-то из
девочек: «Дорогая, можно сесть?»,
Курбатский весело и раскатисто
продекламировал частушку, которая
разогнала остатки утренней дремы:
Дорогой
и дорогая,
Дорогие
оба,
Дорогая
дорогого
Довела
до гроба.
В
пединституте встретила и свою любовь
– Вячеслава Кара-ооловича Маспык-оола,
он учился на педагогическом факультете,
в июле семьдесят седьмого сыграли
свадьбу. Всё бы хорошо, но в семьдесят
восьмом умерла мама, совсем сложно стало
материально. Пыталась совмещать учебу
и работу санитаркой в городской терапии,
но не выдержала такого напряжения.
Решили
с мужем: он доучивается, а я перевожусь
на заочное. Окончив третий курс, так и
сделала и уехала в Арыг-Бажы. Преподавала
в родной школе русский язык и литературу.
Вячеслав Кара-оолович, окончив институт,
сначала учил ребятишек начальных
классов, потом стал военруком.
Продолжение
– в №20 от 24 июня 2016 года.
Очерк
Галины Маспык-оол «А небо всё равно
синее» войдёт тридцать седьмым номером
в шестой том книги «Люди Центра Азии»,
который после выхода в свет в июле 2014
года пятого тома книги продолжает
готовить редакция газеты «Центр Азии».
Фото:
1.
Галина Дулушовна Маспык-оол, член Союза
журналистов России с 2001 года, ветеран
газет «Шын» и «Тыванын аныяктары». На
книжной полке – две награды
профессионального признания за победы
в проводимых Союзом журналистов Тувы
республиканских творческих конкурсах
«Агальматолитовое перо». Республика
Тыва, Кызыл. 24 мая 2016 года. Фото Ай-кыс
Монгуш.
2. Гале
Биче-Шыыр – три года. Тувинская АССР,
Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы.
Осень 1960 года.
3.
Дулуш Бегзиевич и Сондуй Онгар-ооловна
Биче-Шыыры – родители Галины Биче-Шыыр,
в замужестве Маспык-оол. Тувинская
АССР, Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы.
1962 год.
4.Педагоги
и ученики седьмого класса Арыг-Бажинской
восьмилетней школы. Слева направо во
втором ряду: учитель географии Чаш-оол
Кыргысович Сунгарап, завуч Александра
Сундуевна Серен, заведующий интернатом
Монгуш Соскутович Танов, пионервожатая
Зоя Николаевна Сунгарап, директор школы
Ян-оол Серепович Оюн, учительница
русского языка и литературы, классный
руководитель Надежда Семеновна Попченко,
преподаватель физики Валерий Викторович
Тутатчиков. Галина Биче-Шыыр – пятая
слева в третьем ряду. Тувинская АССР,
Улуг-Хемский район, село Арыг-Бажы. 1970
год.
5.
Подруги Галина Шаалы (слева) и Галина
Биче-Шыыр – бойцы студенческого
строительного отряда педагогического
института, работавшего на строительстве
дома в городе Ак-Довураке Тувинской
АССР. На девушках – форма, единая для
всех студентов-стройотрядовцев СССР.
Лето 1976 года.
6.Жених
и невеста – студенты КГПИ Вячеслав
Маспык-оол и Галина Биче-Шыыр, в замужестве
Маспык-оол. 1976 год.
7.Преподаватель
русского языка и литературы Галина
Маспык-оол со своими учениками возле
Арыг-Бажинской восьмилетней школы.
Тувинская АССР, Улуг-Хемский район,
село Арыг-Бажы. Апрель 1979 года.
Галина Маспык-оол, член Союза журналистов России с 2001 года, maspyk-ool@yandex.ru Под редакцией Надежды Антуфьевой, antufeva@centerasia.ru