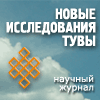Они рядом с нами. Мы часто проходим мимо, не зная того, что рядом с нами в облике незаметной пожилой женщины идет история. Сколько жизненных историй очевидцев войны остается неизвестными? Незаписанными и неуслышанными? И среди них – истории разбросанных войной по разным уголкам страны детей блокадного Ленинграда.
Они рядом с нами. Мы часто проходим мимо, не зная того, что рядом с нами в облике незаметной пожилой женщины идет история. Сколько жизненных историй очевидцев войны остается неизвестными? Незаписанными и неуслышанными? И среди них – истории разбросанных войной по разным уголкам страны детей блокадного Ленинграда.
В Туве их, детей блокады, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда» – семеро. Трое живут в Кызыле: Борис Борисович Подгорный, Елена Ивановна Тутатчикова, Валентина Михайловна Жигарина. Я встретилась с каждым из них и записала их рассказы.
Борис, Лена и Валя во время войны были маленькими, но те страшные дни навсегда врезались в их детскую память. Почему-то все страшное и тяжелое запоминается гораздо ярче, чем спокойное и безмятежное.
Но, даже когда слушаешь воспоминания очевидцев, не представляешь в полной мере всего того, что им пришлось пережить. Как это: получать в день лишь 125-граммовый кусок хлеба? Сколько это – 125 граммов?
Накануне шестидесятилетия Победы, на юбилейной выставке в Минусинском музее имени Николая Мартьянова, я впервые увидела хлеб, порезанный в соответствии с блокадными нормами. 250 граммов в день для рабочих и 125 граммов – на служащих, иждивенцев и детей. Кусочек в 125 детских граммов лежал в чашке старинных весов. Сухой, какой-то потрескавшийся. И такой маленький…
Увидев его, я уже по-другому стала воспринимать то, что пережили в 1941-1943 годах маленькие Борис, Лена и Валя.
СВЕТ В ОКОШКЕ
Эту песню Елена Ивановна Тутатчикова (Голубева) пронесла через всю свою жизнь. Она выучила ее в детском доме. Даже теперь, напевая эту песню про Ладожское озеро, Елена Ивановна не может сдержать слез…
Сквозь бури, ветры, через все преграды,
Ты, песня – Ладога, лети,
Дорога здесь проходит сквозь блокаду,
Другой дороги не найти.
Эх, Ладога, родная Ладога,
Метели, штормы, грозные грома,
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни названа.
 Первое детское воспоминание маленькой Лены: зима, ее вместе с другими детьми вывозят по тонкому льду Ладоги на стареньких автобусах. В небе летают фашистские самолеты, их завывание пугает. Дети прижимаются друг к другу, им холодно и страшно.
Первое детское воспоминание маленькой Лены: зима, ее вместе с другими детьми вывозят по тонкому льду Ладоги на стареньких автобусах. В небе летают фашистские самолеты, их завывание пугает. Дети прижимаются друг к другу, им холодно и страшно.
В блокаду Леночке было всего два годика, поэтому многое она знает только по рассказам брата.
Жила семья Голубевых на Васильевском острове, 13 линии. Отец-моряк во время блокады был на фронте. А мама работала на Кировском заводе. У Лены было два брата. Младший и старший. Младшего, когда началась война, тетя увезла в деревню, в Новгородскую область, но война их и там настигла. Братик вскоре умер от туберкулеза.
А второй брат, Юра, был значительно старше. В начале блокады ему было уже 12 лет.
– Брат мне рассказывал, – вспоминает Елена Ивановна,– что мама работала с утра до позднего вечера. А он оставался со мной. По карточкам хлеб получать тоже он ходил. И однажды, когда Юра уже отстоял длиннющую очередь за хлебом, у него карточки, все четыре штуки, вырвали. Вот только он к окошечку подошел, карточки протянул, а у него их раз – вырвали. А ведь остаться без карточек в то время было страшно! Мы все расстроенные ходили, не знали, что делать. Соседи нас пожалели, дали одну карточку на всех. Неправда, что в блокадном Ленинграде каждый сам за себя был. Во всяком случае, у нас в доме все друг другу помогали.
 И голодно, и холодно, конечно, было. Чуть серена завоет – все в бомбоубежище… После одной из бомбежек у нас в доме чердак разрушило.
И голодно, и холодно, конечно, было. Чуть серена завоет – все в бомбоубежище… После одной из бомбежек у нас в доме чердак разрушило.
Еды всегда не хватало. Но обычно, когда все хлебушек съедят, крошки никто не собирает. Оставляют Леночке, а сами уходят. Лена сидит и эти крошечки пальчиком собирает… Аккуратненько кушает.
А маму Юра постоянно с работы встречал, потому что у нее сил уже очень мало было. А вот однажды, зимой 1942, сидят, ждут ее. Ее все нет и нет… Тетя говорит: «Юра, иди посмотри, может быть, мама идет где-то уже по дороге».
– Рассказывал потом, – говорит Елена Ивановна,– что идет по дорожке и видит: мама на снегу сидит, идти совсем не может. Юра привез из дома саночки и на них довез маму. Но сил у нее уже совсем не было. В этот же вечер она умерла. Обычно я спала вместе с мамой, но в тот вечер, из-за того, что она очень обессилела, меня переложили к тете.
Утром я встаю, говорю: «Мама, мама где?» Подошли к ее кровати, а она уже умерла… От голода, видимо. Она все отдавала нам, детям. Юре сказали, чтобы он взял простынь и сшил мешок. Он все сделал, положил маму на саночки и повез на склад, где трупы собирали. Привез, видит – там уже целые штабеля лежат. Мешок велели расшить, одежду снять, потом взяли ее за руки – за ноги и в штабель закинули…
После того, как мама умерла, тетя, чтобы спасти Лену от голода-холода, отвела ее в приют для малолетних детей. Там немного лучше кормили, теплее было. Лена там денек побудет, а потом Юра придет, заберет ее домой на вечер, чтобы она хоть дома побыла.
А потом снова в этот приют отводит. Через некоторое время Юру увезли в детский дом. А Лену чуть попозже отправили по Ладожскому озеру на машинах. Ехать было опасно, лед уже начинал подтаивать. К тому же, бомбежка страшная была.
Попала Лена в село Сокольское Ивановской области, в дом малюток. О нем у нее уже больше воспоминаний.
Самое яркое из них: в 1944 году прошел по селу слух: немцев пленных ведут! Все куда-то бегут, прячутся… Дети очень боялись этих пленных. Леночку спрашивают: «Ты куда спрячешься?» Она, маленькая говорит: «А я вот, под простынку».
Уже после войны перевели Лену в детский дом города Кохма. Это детдом был специально для ленинградских детей. Это был очень-очень хороший детдом. Там детей прекрасно кормили, прекрасно с ними обращались.
Здание детского дома, бывшей помещичьей усадьбы, было просто великолепно! Красивейшее, живописное такое. В этой усадьбе и прошло все Ленино детство.
– А в детстве я вредная была! – с озорством вспоминает Елена Ивановна. – Помню: утро, всех на зарядку собирают. Ребята кубарем по лестнице – на улицу. А я в комнате через окошечко вылезу на маленький балкончик и там одна зарядку делаю. Мне так больше нравилось.
Дети у нас очень дружные в детдоме были. Если кому-то посылка какая-то придет, делились. Одному мальчику однажды родственники прислали халву. Он ее на всех разделил. Каждому по маленькому кусочку досталось. Но было очень вкусно, сладости-то мы редко тогда ели.
В Кохме Лена стала получать письма от брата. Он тогда служил в армии. Был бравым моряком. А однажды он приехал в детский дом. Как Лена рада была! Редко к кому приезжали родственники. А тут брат! Красивый, статный!
Сразу после детдома поступала Лена в Красноярский пединститут. На практику поехала в Туву. Здесь ей очень понравилось. Кызыл был беленький, чистенький, зеленый!
– Работала учителем в районах, – вспоминает Елена Ивановна,– В Хандагайты, в Ужепе. А потом кем только ни работала. Больше всего мне нравилось работать почтальоном. Работа на свежем воздухе, с людьми общаешься постоянно.
Всегда старалась журнал, письмо в руки отдать, чтобы не потерялись. Чтобы людям приятно было.
* * *
– После войны ездила к брату в Ленинград. В 1992 году там последний раз была. Сходила на Пискаревское кладбище. Там, на этом огромном кладбище, камни с годами над братскими могилами. Я к 1942 году, в котором мама умерла, положила цветы.
Брат у меня сейчас в Ленинграде живет. Он меня водил на Васильевский остров, показывал наш дом. Мы туда вечером ходили, и он мне показал на окошко, где свет горел. Сказал: «Это наше окно. Мы там жили…»
СЕДЬМОЙ
У него есть только две фотографии, где он вместе с мамой Валей. Крым, Евпатория, 1939 год. Ласковое море, веселый Боря с чуть прищуренными от солнца глазами, мама в белой панамке. Только эти фотографии напоминает ему о том, что были у них с мамой и счастливые дни – без войны.
 Когда началась война, Боре Подгорному было четыре года. Отец сразу ушел на фронт. Последнее воспоминание о нем – отец целует его и уходит. Уходит на войну…
Когда началась война, Боре Подгорному было четыре года. Отец сразу ушел на фронт. Последнее воспоминание о нем – отец целует его и уходит. Уходит на войну…
Пять лет Боре исполнилось в январе 1942 года. Шла самая тяжелая блокадная зима. Не было электричества, и почти весь город погрузился во тьму. Дома не отапливались. В январе перестал работать и водопровод.
Борис с матерью жил на Левашевском проспекте, в Петроградском районе. В квартире №53, на втором этаже, в кирпичном доме с аркой.
В пять лет Борис уже стал взрослым: стал опорой матери, как мог, помогал и соседкам по дому, и просто прохожим. За водой он на Неву ходил. Повезло, что ходить было не очень далеко. Около ста метров. Борис себе воды наберет и другим поможет, у кого уже сил мало. Часами он стоял и котелками, кружками, черпал из Невы воду женщинам.
Постоянно хотелось есть. Борис ходил получать хлеб по карточкам. На человека давали только маленький, черный, с горьким вкусом полыни кусочек. Борис всегда крепко держал карточки в кармане и вытаскивал их только у окошечка выдачи. Боялся, что украдут. Пока домой хлеб нес, откусывал понемногу. Иногда только половину домой приносил. А один раз Борис даже не заметил, как весь кусок съел. Но мама не ругала его. Наоборот, она всегда старалась Боре дать побольше хлеба.
Осенью было еще терпимо. Борис с другими ребятишками бегал по помойкам, собирал очистки от картошки, рвал крапиву. А потом из этого готовил суп. Резал крапиву, добавлял картофельные очистки, варил. Суп получался очень хороший, даже наваристый.
 А вот зимой было очень тяжело. Мороз, голод… В квартире печку-«буржуйку» установили, в ней сожгли все табуретки и шкафы. Только кровать железная и осталась…
А вот зимой было очень тяжело. Мороз, голод… В квартире печку-«буржуйку» установили, в ней сожгли все табуретки и шкафы. Только кровать железная и осталась…
Ленинград постоянно бомбили. Но Борис никогда в бомбоубежище не прятался. Как только бомбежка – сразу бежал наверх, на крышу своего дома. Помогал женщинам зажигательные бомбы с крыши сбрасывать. Подползал к самому краю и сбрасывал шипящую «зажигалку» вниз, а уже там ее тушили. Мама его за это не ругала, потому что просто не знала. Целыми днями она работала. Только вечером, уставшая, приходила домой. Соседка по лестничной клетке – Клавдия Григорьевна Федотова – иногда приходила, помогала Борису, пока мама на работе была.
Целыми днями Борис находился в
совсем недетских хлопотах: добывал дрова, стоял в очередях за хлебом. Времени на
игры почти не оставалось. Да и игратьто было нечем.
– В начале войны, –
рассказывает Борис Борисович,– была у нас на весь двор одна деревянная машинка
– грузовик и две лопатки деревянные. Эти игрушки у одного мальчика из нашего двора
были. Он нам всем давал играть. Нагружали этот грузовичок песком, возили на
веревочке. Потом грузовичок с лопатками, видимо, сожгли, дров-то не было. Тогда
мы стали к какому-то тазику веревочку привязывать и таскать его, как машинку,
за собой. Им и играли. Больше игрушек не было.
Во дворе, где жил Борис, на
весь дом одни санки были. Большие такие, в подъезде стояли. И если кто умирал, сразу
шли за этими санками. Впрягались в них и везли человека хоронить. Вернее, какое
там хоронить, просто ров был, туда людей складывали, как дрова. Борис всегда
помогал эти санки таскать, впряжется с какойнибудь женщиной и тащит… Не было
такого у них во дворе, чтобы мертвые просто так лежали, невывезенные. Всех
вывозили, хоронили.
– Однажды, – вспоминает Борис
Борисович,– зимой 1943 года, проснулся от холода. Потрогал лежащую рядом маму –
холодная… Я побежал к соседке тете Клаве. Та пришла, посмотрела и тихо сказала:
«У вас тут простынь есть?» Завернули в простынь, повезли…
У этой соседки я прожил около
двух недель. У тети Клавы было двое своих детей: мальчик и девочка. Тяжело ей было
троих детей кормить, вот она мне однажды и говорит: «Давай мы тебя, Борис, в
детприемник отведем, там как раз детей вывозить собираются». Я согласился. В
приемник меня приняли. Там уже ребятишек много-много собралось.
В марте Бориса вместе с другими
детьми стали эвакуировать. Посадили на машины, довезли до Ладожского озера, а там
уже три катера стоят. На катере все ребятишки в трюм ушли, а Борис шустрый с
детства был, так что на палубе остался, с матросами. Помогал им да на воду
смотрел. Когда до берега оставалось уже совсем немного, налетели самолеты, стали
бомбить. Как раз в катер, на котором был Борис, бомба попала.
Борис помнит: его выхватывают
из воды сильные руки – какой-то матрос выкидывает его на берег, кричит:
«Седьмой! » И снова в ледяную воду, других спасать. Так и запомнил Борис, что
тот матрос уже шесть ребятишек спас, его – седьмого.
Оставшиеся два катера доплыли
нормально, их бомбы миновали. На берегу уже автобусы стояли. Старенькие, полуразбитые,
без стекол.
Всех детей по автобусам
рассадили, тронулись. Где-то с километр проехали – опять самолеты вернулись.
Начали колонну бомбить. И снова – разбомбили тот автобус, в котором был Борис.
Очнулся он уже в военном
госпитале, на операционном столе. Весь живот разворочен. Медсестра увидела, что
Борис в себя пришел, дала что-то понюхать, он опять уснул.
– Потом уже помню: на носилках
в коридоре лежу,– рассказывает Борис Борисович.– Ко мне медсестра подошла, сказала,
что двенадцать часов они за мою жизнь боролись.
Госпиталь был двухэтажный. Как
раз рядом с ним железная дорога проходила. И каждый день по ней везли раненых.
Около двух месяцев Борис в
госпитале пробыл. Среди солдат раненых. Когда ему стало лучше, стал помогать
им. Кому пить подаст, кому еще что. Женщины из города принесут раненым хлеба,
сахара кусочки, Борис солдатам предлагает, а никто не берет. Все ему отдают,
маленькому.
Женщины-медсестры бинтов
настирают, и Борис сидит и целыми днями эти бинты мотает в рулончики, чтобы
раненых потом перевязывать медсестрам удобнее было. Бинты во время войны
использовали по несколько раз, на всех ведь не хватало.
Когда Борис совсем выздоровел,
ему на шею повесили бирку с фамилией, именем, отчеством, годом рождения и
отправили в Сибирь, в городе Ленинск-Кузнецкий, в детский дом. В этом детдоме
все дети из Ленинграда были.
– День Победы я в этом детдоме
и встретил, – вспоминает Борис Борисович. – По репродуктору тогда передали. Обрадовался,
конечно, очень! Нам даже в школу разрешили не ходить.
В этом детдоме я до 1952 года
пробыл. А потом, потому что я худенький, слабенький был, решили меня в другой
детдом отправить, в село Красное. Воспитатели в этом детдоме хорошие были. Все в
Ленинград писали, хотели родственников, близких моих найти. Наконец, нашли соседку,
у которой я после смерти мамы жил. Послали ей телеграмму, дали мне денег, и
поехал я домой, в Ленинград. Мне тогда где-то 16 лет было.
Приехал Борис в Ленинград. Сел
в такси, рассказал водителю историю своей жизни, так водитель даже денег не
взял за проезд. Подъехали к дому, видит: женщины все окна пооткрывали, смотрят,
кричат: «Борис приехал!». Встречали его всем домом. Из одной квартиры в другую
водили.
Жил у тети Клавы. Узнал Борис,
что, оказывается, после войны отец его с фронта вернулся, но где сын и что с
ним – не знал. Женился он на тете Клаве. Она ему, конечно, рассказала, что
отправила Бориса эвакуироваться, но дальнейшую его судьбу им отследить не
удалось. А через год после войны отец умер от ран.
Это все тетя Клава Борису
рассказала, когда он к ним приехал. Еще она отдала фотокарточки, которые отец
всю войну с собой пронес. На этих фотографиях Борис и мама. И еще была одна
фотография отца. Только одна она в память о нем и осталась.
– Знаете что интересно, – вдруг
вспоминает Борис Борисович, – хоть уже блокаду такую голодную пережили, но
никаких запасов тетя Клава не делала. Шкафы постоянно пустые были. Она мне
денег давала, говорила: «Иди, купи грамм 100 масла, пачку пельменей на обед». А
к ужину снова надо было в магазин идти. Ну не принято у них почему-то было
сразу много всего покупать.
Я посмотрел на все это, думаю:
«Как они так живут-то в Ленинграде?». А у меня же были деньги, которые мне в
детдоме на поездку дали, вот пошел в магазин, накупил всего сразу – по-сибирски.
Круп всяких, сахару… всего понабрал! Вечером они приходят с работы домой,
говорят: «Надо в магазин сходить». А я им: «Зачем в магазин? Все есть!» С тех
пор я их научил продукты впрок покупать. Чтобы запас был.
Целый месяц Борис там прожил. А
потом обратно в детдом уехал.
Девять с половиной классов
Борис закончил, а потом решил идти работать. Поехал в Сталинск, сейчас он
Новокузнецком называется. Там поступил в ФЗО (фабрично-заводское обучение).
Стал столяром пятого разряда. Работал на стройке. Потом он со стройки ушел,
стал на шофера учиться.
– В 1967 году познакомился с
парнем, который из Ак-Довурака приехал, – вспоминает Борис Борисович. – Он меня
в Туву позвал. Я и поехал. Работал водителем в Ак-Довураке, потом в кызыльском
АТП, в гороно. Вот так и получилась, что сначала, в войну, с грузовичком играл,
а потом почти всю жизнь водителем проработал.
***
– Во время блокады я никогда не
плакал, а вот сейчас фильмы или передачи про войну слезу выбивают.
В 2003 году, на 300-летие
Петербурга нас, блокадников, в родной город пригласили. Там нас водили на
экскурсии, показывали в кинотеатре документальные кадры про блокадный
Ленинград. Там один кадр был: мальчик лет пяти-шести стоит в шапочке и шубейке
на Неве и помогает людям воду черпать. Тут меня как что-то кольнуло – это же я!
Ну просто очень похож. Хотел закричать: «Это я!», но постеснялся.
Сходил я и к своему дому, но
попасть в квартиру не смог: железная дверь там стояла. Никаких знакомых в доме
уже не нашел. Никого… Около дома походил, во дворе постоял. Двор только немного
изменился, мусорные ящики убрали, а так прямо двор из моего детства…
БЕЛЫЕ СЛОНИКИ
 Валентина Михайловна Жигарина
(Филимонова) – коренная ленинградка. С мамой, сестрой Верой и братом Виктором
жили они на Васильевском острове, 17. Сестре в начале войны исполнилось 17,
брату четырнадцать, а ей двенадцать.
Валентина Михайловна Жигарина
(Филимонова) – коренная ленинградка. С мамой, сестрой Верой и братом Виктором
жили они на Васильевском острове, 17. Сестре в начале войны исполнилось 17,
брату четырнадцать, а ей двенадцать.
Мама Вали, Александра
Григорьевна, работала на фабрике имени Урицкого. Она очень строго воспитывала
своих детей. Никто никогда со стола кусков не таскал, все ели в одно время, вместе
собравшись за большим столом.
До четырех лет Валя не ходила.
Ее возили по разным врачам, лечебницам, но ничего не помогало. Валя не могла встать
на ноги, но однажды, когда находилась в очередном санатории, то смогла встать.
Мама, увидев это, упала на колени и долго не могла поверить в это чудо.
– Я считаю, – говорит Валентина
Михайловна, – что это Бог мне помог. Он помог мне выжить во многих жизненных ситуациях,
поэтому свое свободное время я посвящаю церкви, теперь, когда я уже на пенсии,
это стало нетрудно, а раньше приходилось совмещать работу и церковь.
Квартира у Вали была
коммунальная. Но соседей Валя помнит плохо. До войны в доме было уютно и тепло,
чувствовалось, что это действительно то место, куда можно всегда прийти и где
всегда будет хорошо.
С войной все изменилось.
– Во время блокады были очень
сильные морозы, ой, сильные! – Вспоминает Валентина Михайловна. – Закутаешься во
все, что есть в доме теплое, только так на улицу и можно было выйти. В доме у
нас стояла печка. Мы с братом ходили по улицам, собирали ветки, деревья
маленькие рубили, а вот мебель не жгли. Рука не поднималась. Мать все, что получала
на работе, все отдавала нам, всевсе.
Получать по карточкам хлеб
ходила сестра. Сама Валя ходила всего раза четыре. И из них три раза у нее
карточки выхватывали. Мама ее не ругала никогда. Никогда из-за еды они не
ссорились. А вот внизу у них соседи были, так там брат убил брата, за то, что
тот съел его суп из кошки…
Еще до войны в квартире
появилась собака. Красивая овчарка – Альма. На нее даже бумаги специальные
имелись, зарегистрированная она была. И вот блокада. Что делать? Самим есть нечего.
Альма худая-худая.
– Мы очень ее любили, –
рассказывает Валентина Михайловна – это был член нашей семьи. Мы не могли
съесть нашу Альму. И мама нам сказала: «Ребята, давайте хотя бы не мы ее
съедим, пусть кто-то другой». Мы увезли нашу собаку далеко-далеко от дома.
Плакали. Прошло три дня. Альма прибежала обратно, еще более худая. И смотрит на
нас глазами, как у человека. И как будто слезы у нее в глазах. А мы смотрим на нее
и плачем. Не знаю, что бы было с собакой, но дня через два после ее возвращения
пришли в дом двое военных и забрали Альму. Она же была породистая. Вот они ее и
забрали на службу. И тем Альму от голодной смерти спасли.
11 апреля 1942 года умерла Валина
мама. Ранним утром к Вале подошла Вера и начала будить. Валя открыла глаза, и
сестра упавшим голосом сказала: «Валя, вставай, мама умерла».
Специально сэкономили кусок
хлеба, пригласили за него бабушек-соседок, они маму обмыли. А как хоронили, не помнит
Валя…
Потом сестра ушла в дружину,
которая ходила по домам, собирала и переписывала мертвых. Валя с братом иногда ходили
вместе с ней. Заходят в квартиру, а там все мертвые, вещи на полу кое-какие
валяются, да игрушки иногда…
А еще, пока силы были, с
дружиной сестры они устраивали концерты. Ходили по домам, собирали людей и в подъездах
показывали им разные номера. Танцевали, читали стихи, пели. Так они хоть
маленько помогали людям держаться, поднимали им настроение.
Валя с Верой и с Виктором часто
тушили сброшенные во время воздушной тревоги зажигалки. Или в воде, или в песке.
Потом сестра стала военным
водителем. Ходила в шинели. Изредка выкраивала время и навещала брата с
сестрой. Понимая, что не сможет за ними постоянно приглядывать, она оформила Валю
в детский дом, а Витю – в ремесленное училище.
Но Валя с братом договорились, что
ночевать будут только дома. Будут ждать сестру. Дом был чем-то вроде крепости. А
потом детей из училища, в котором был Валин брат, решили вывозить из
Ленинграда. Попрощались, как оказалось, навсегда. Ничего о судьбе Вити до сих
пор не известно. Ходили слухи, что их разбомбили.
После отъезда брата Валя все
равно не желала ночевать в детдоме. Уходила оттуда вечером и приходила утром. Сначала
воспитательницы пытались ее удерживать, а потом поняли, что это бесполезно. Она
постоянно рвалась домой.
– Мне казалось, – вспоминает
Валентина Михайловна, – если останусь ночевать в детдоме, то случиться что-то страшное.
Казалось, что я потеряю свой дом навсегда. А так я приходила в свою квартиру и
ждала сестру. Я думала: если я вот так каждый вечер буду ее ждать, то она
обязательно очень скоро вернется. Я до сих пор вспоминаю, как в детстве она
сделала для меня стульчики и разную другую кукольную утварь. У меня в коробке
домик был для кукол, так там все было. И шторки, и даже плита игрушечная. Со
сковородочками и кастрюльками.
Помню, я в большом пальто с
воротником иду по улице и по ногам меня бьет противогаз. Без него не разрешали ходить
никому. Что с ним делать и как надевать, я не знала, но постоянно носила с
собой.
Валя приходила домой, сидела в
холодной квартире и смотрела на белых слоников. На шкафу их стояло целых семь
штук. Во главе ряда – самый большой, а в конце самый маленький слоник. Эти
слоники стали для Вали символом дома.
А потом Валин детдом решили
эвакуировать через Ладогу. Всех детей уже привезли к озеру, и они смотрели, как
загружают баржу с детьми из другого детского дома. Это была поздняя осень. Баржа
не могла подплыть к берегу, поэтому через каждые полтора-два метра по грудь в
воде стояли матросы и такой цепочкой передавали детей на баржу. И, как только
баржу загрузили, началась бомбежка, и баржу разбомбило. Валю с другими детьми
сразу же увезли оттуда. Побоялись отправлять, вдруг снова бомбежка?
Через некоторое время решили
эвакуировать второй раз, на этот раз уже на поезде. К тому времени у Вали была страшная
цинга. Десны кровоточили, есть Валя почти не могла. К отъезду она подготовилась
основательно. У нее была маленькая детская сумочка-чемоданчик и туда она
положила все самое ценное. Не забыла и про белых слоников. Но сумочку в поезде
украли. Пропали слоники… Нигде она больше таких не видела.
– Привезли нас в какое-то село
Варнавино, – вспоминает Валентина Михайловна – в этом селе мы в детдоме жили. Учились.
Я все думала: когда же сестру свою увижу, брата?
Уже после войны повезли нас
обратно в Ленинград. Там я наконец-то встретилась с сестрой. Привезли меня в
какое-то здания, завели в комнату, там стояли стол и стулья. На стуле сидела
сестра… Меня спросили воспитатели: «Ты знаешь кто это?» Я сказала, что это моя
сестра, и заплакала… Сестра забрала меня домой. В нашу старую квартиру. Туда,
где я ее так долго ждала…
После войны Валя работала
фрезеровщиком на заводе «Красный металлист». Потом, после ремесленного училища,
на Кировском заводе слесарем работала. В Кызыле совсем случайно оказалось. Познакомилась
с будущим мужем, а он оказался из Тувы, сначала они с ним в Ленинграде жили, а
потом переехала в Кызыл. Много лет Валентина Михайловна проработала санитаркой
в онкологическом диспансере.
***
– После войны я еще много раз
ездила в Ленинград. Вера так там и жила, в нашем старом доме, в нашей прежней квартире.
Все время, когда я приезжала туда, вспоминала белых слоников, что стояли на
шифоньере. Семь белых слоников… Сколько я, уже взрослой, искала таких в
магазинах, да так и не нашла…
Этим детям блокадного
Ленинграда повезло – они выжили, но тысячи и тысячи других погибли.
И Елена Ивановна, и Борис
Борисович, и Валентина Михайловна вспоминают блокадный Ленинград со слезами на
глазах. Их детство было омрачено войной. Вместо того, чтобы играть в куклы, в
дочки-матери или в казаки-разбойники, они выживали. Каждый день они боролись со
смертью.
И в их воспоминаниях о детстве
встречаются одни и те же слова: «зима», «мама умерла», «санки», «голод»,
«хлеб». И «Ладога» – их дорога из смерти в жизнь.
Надя АНТУФЬЕВА
Фото автора и из личного
архива Елены Тутатчиковой, Бориса Подгорного, Валентины Жигариной
(«Центр Азии» № 24, 17 июня
2005 года)
Фото:
1. Елена Ивановна Тутатчикова (Голубева)
и ее животные, которых она подобрала на улице и приютила: Сента и Рыжик. 2005 год.
2. Борис Борисович
Подгорный и его автомобиль. 2005 год.
3. Валентина Михайловна
Жигарина (Филимонова) ставит свечку в Кызыльской Свято-Троицкой церкви. 2005 год.