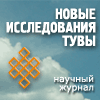Она снова прилетела в Кызыл. И поехала в Чадан – к руинам храма Устуу-Хурээ, с которыми ее жизнь связана вот уже 22 года.
Она снова прилетела в Кызыл. И поехала в Чадан – к руинам храма Устуу-Хурээ, с которыми ее жизнь связана вот уже 22 года.
Зачем ей, по национальности – еврейке, по прописке – москвичке, этот буддийский храм в тувинской степи? Кто она – и сейчас, в свои семьдесят пять лет, красивая женщина с необычным именем – Вилля Емельяновна Хаславская?
«Изменить свое имя – это отказаться от себя»
– Вилля Емельяновна, что означает ваше необычное имя?
– Я родилась в те годы, когда детям давали новые имена, в соответствии с духом времени. Среди моих сверстников было очень много Кимов – Коммунистический Интернационал Молодежи. Были Вилены – Владимир Ильич ЛЕНин, Сталины. Дети носили имена Радий, Вольт и даже Электрификация.
И мои родители, комсомольцы, тоже дали мне соответствующее имя: Вилля – Владимир Ильич Ленин, по первым буквам. А второе «л» – для благозвучия.
– Многие потом, вырастая, меняли свои так опрометчиво данные родителями идеологические имена. А у вас не возникало желания сменить его на что-то нейтральное?
– Например, Валя? Да, это было бы проще и понятнее. Но изменить свое имя – это как бы отказаться от себя. Это же не волосы перекрасить в другой цвет. Так 75 лет и живу с данным родителями именем.
– А кто ваши родители?
 – Отец – Емельян Абрамович Хаславский – военный врач. Я ношу его фамилию, так как в браке не состояла. Сейчас я предполагаю, что отца на самом деле звали как-то по-другому: не Емельяном, а, возможно, Эммануилом. В двадцатые годы активно шел процесс ассимиляции евреев, долгие годы живших в так называемой «черте оседлости» – в известной изоляции. Очень многие меняли свои имена на русские. Так Голды стали Ольгами, Ханы – Аннами, Борухи – просто Борисами. Но теперь уже об этом спросить некого.
– Отец – Емельян Абрамович Хаславский – военный врач. Я ношу его фамилию, так как в браке не состояла. Сейчас я предполагаю, что отца на самом деле звали как-то по-другому: не Емельяном, а, возможно, Эммануилом. В двадцатые годы активно шел процесс ассимиляции евреев, долгие годы живших в так называемой «черте оседлости» – в известной изоляции. Очень многие меняли свои имена на русские. Так Голды стали Ольгами, Ханы – Аннами, Борухи – просто Борисами. Но теперь уже об этом спросить некого.
Мама, Эсфирь Львовна, всегда носила свою девичью фамилию – Комм. Всю жизнь, с юности до самой смерти, работала. К сожалению, ей не удалось получить высшее образование, так как нескольких классов трудовой школы (нечто вроде ПТУ) было недостаточно для поступления в вуз. А на рабфак ее не приняли, так как происходила она из Чернигова, который считался сельскохозяйственным районом, а на учебу направляли молодежь преимущественно из районов промышленных.
Отец же после рабфака окончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде. Там я и родилась. И очень гордилась в детстве тем, что родилась в клинике этой академии. Потом отец получил назначение в санчасть летного полка – в Воронежскую область. В середине тридцатых, после столкновений на КВЖД (прим. авт.: Китайско-Восточная железная дорога), полк перевели в Забайкалье, в Нерчинск. Так в четырехлетнем возрасте я попала в Сибирь, где мы прожили несколько лет. Помню, долго хранила сделанного из уральского камня льва, которого мне подарили ехавшие с нами в поезде красноармейцы.
А в тридцать восьмом году мы с мамой и младшей сестрой, которой едва исполнилось шесть месяцев, переехали к маминым родным в Чернигов.
В Чернигов мы вынуждены были переехать, потому что отца арестовали. Посажен он был за халатность по организации противопожарных мероприятий: в военном санатории, который он возглавлял, случился пожар. Слава Богу, ему не приписали диверсии или еще чего похуже, ведь это был тридцать седьмой год… Отец рассказывал, что когда сидел в общей камере, по ночам раздавался лязг замков и никто не знал: кого вызовут и вернется ли вызванный назад.
– Отец вернулся?
 – Вернулся. Дали ему четыре года. Он отсидел три и вернулся. Его восстановили в армии, хоть и с понижением в звании, и дали комнату в Москве, что было чудом по тем временам. Так что с сорокового года я – москвичка.
– Вернулся. Дали ему четыре года. Он отсидел три и вернулся. Его восстановили в армии, хоть и с понижением в звании, и дали комнату в Москве, что было чудом по тем временам. Так что с сорокового года я – москвичка.
Смешная история произошла у нас со справкой, дающей право на эту четырнадцатиметровую комнату. Справка хранилась в папке, в ящике дивана. Был у нас такой диван – с высокой спинкой, полочкой. В доме, построенном в середине тридцатых годов, были деревянные перекрытия и водились мыши. Одна из них устроила гнездо в ящике дивана и изгрызла в мелкие клочки эту бесценную справку, сделав из нее уютную подстилку. И вот я помню, как отец с мамой старательно наклеивали эти клочки на лист бумаги, но так и не смогли восстановить важную подпись какого-то начальственного чина.
Наш пятиэтажный дом стоял на улице Мытной, в коммунальной квартире жили три семьи. Общая кухонка – четыре с половиной метра, но жили очень дружно. В самой маленькой, десятиметровой комнате, жили молодожены, инженеры – очень милые Ашхена Михайловна и Федор Федорович. Она армянка, он немец, по паспорту Фриц Фрицевич.
Когда объявили о начале войны, бедный Федор Федорович сделался белый, как стенка. Он понимал, чем это ему грозит. Действительно, его, как и всю его московскую интеллигентную семью, депортировали, отправили куда-то в лагеря, потом на поселение. Она долго-долго его ждала. Но так и не дождалась.
– О том, что перенесли во время войны при «переселении народов» советские немцы, мы уже беседовали с героем одного из интервью – Анатолием Наглером. А вот тема «война и евреи» резанула меня в одном из стихотворений Бориса Слуцкого, которое так и называется «Про евреев».
Евреи хлеба не сеют,
Евреи в лавках торгуют,
Евреи раньше лысеют,
Евреи больше воруют.
Евреи – люди лихие,
Они солдаты плохие:
Иван воюет в окопе,
Абрам торгует в райкопе.
Я все это слышал с детства,
Скоро совсем постарею,
Но все никуда не деться
От крика: «Евреи, евреи!»
Не торговавший ни разу,
Не воровавший ни разу,
Ношу в себе, как заразу,
Проклятую эту расу.
Пуля меня миновала,
Чтоб говорили нелживо:
«Евреев не убивало,
Все воротились живы!»
– «Все воротились живы…» (Замолкает.)
Отец погиб 23 июля 1943 года. Под Воронежем, на станции Россошь. Мы в это время были в эвакуации в Омске.
Погибли два моих двоюродных брата – сыновья тети Сони. Старший Боря Поляк – на флоте. А младший, Толя, с которым я была особенно дружна, ушел на фронт, еще даже не окончив школу, и погиб под Сталинградом. Младший мамин брат Борис был в партизанах, пришел в Чернигов с заданием, но его выдали. Фашисты его повесили.
Пятый пункт
– Ощущала ли девочка из еврейской семьи проявления антисемитизма?
– Хо, хо! Еще как ощущала. В школе – изредка, на бытовом уровне. Но в сорок восьмом году я окончила школу и поступала в московский полиграфический институт, на факультет художественного редактирования. У меня был сильный рисунок и абсолютно проходной балл, но я не поступила. Меня не приняли в институт ни по основному списку, ни по дополнительному, куда включили даже еле набравших троечки. Я просиживала очереди в разные кабинеты. И в каждом кабинете мне задавали вопрос: «Кто вы по национальности?» Я отвечала: «Еврейка». И все. Больше меня уже ни о чем не спрашивали.
– Не помогло даже то, что вы – дочь погибшего на войне офицера?
– Нет, какое это имело значение по сравнению с национальностью. Через год я поступила на вечернее отделение Московского государственного университета, на искусствоведческое отделение исторического факультета. Мамина зарплата была крохотная, пенсия, которую я получала за погибшего на войне отца, пропала – ее выплачивали только учащимся очных отделений. Осталась только пенсия на младшую сестру. Мне нужно было искать работу. И четыре года меня никуда на работу не брали.
Помню, однокурсница, работавшая в архитектурной мастерской, привела меня в свой отдел: им очень нужны были чертежницы. В отделе меня приняли очень хорошо, сразу же определили, какую работу мне поручат. Но надо было идти в отдел кадров – с многостраничной анкетой. Говорю: «Меня не возьмут». «Что вы, не может быть, вы же нам полностью подходите!»
Я оказалась права. Кадровик – отставник с каменным лицом и оловянными глазами – дальше первой половины первой страницы анкеты и смотреть не стал.
– Графа «национальность» как раз и стояла в первой половине – пресловутый «пятый пункт». Как у Высоцкого: «Говорит, что за графу не пустили пятую»?
– Да. Впрямую, конечно, об этом не говорили, находили другие аргументы, например: «Вы учитесь, это будет мешать работе». Вот так…
Так что на первую штатную работу мне удалось устроиться только в 1953 году, после смерти великого вождя и отца всех народов.
Соответственно и жили. Я помню, как мечтала: начну работать и буду покупать себе в университетском буфете на обед кулебяку – кусок пирога с капустой. Кулебяка мне была не по карману. Мой обед в университете состоял из порции винегрета с большими кусками лука, в котором маслом и не пахло, куска черного хлеба, стакана чая и пирожка с повидлом.
Как могла, подрабатывала случайными заказами: вычерчиванием графиков для диссертантов, фотографией. От отца остался фотоаппарат: «ФЭД» выпуска весны сорок первого года, с прекрасной оптикой. И вот я стала после войны его осваивать. И однажды соседи моей одноклассницы попросили меня сфотографировать их дочь вместе с любимым полосатым котом. И дали за это мне деньги в конвертике. Это был первый мой гонорар.
А потом меня стали передавать из семьи в семью по рекомендации. Приходила на целый вечер: ребенок играл, кушал, купался – привыкал ко мне. И у меня получались хорошие портреты. Позже снимала природу, памятники архитектуры: в поездках, в походах. Снимала на Урале, в Архангельской области – это мои самые любимые снимки, в Туве.
– У вас дома, в Москве, я просматривала огромные кипы ваших фоторабот –
портреты, пейзажи. Вы никогда не выставлялись, не печатались?
– Нет. Только однажды, еще в
студенческие годы, в пятидесятых, в одном доме под Москвой устраивали любительскую
выставку, там было несколько моих работ. И уже в девяностых мы делали вместе с Виктором
Викторовичем Бугровским альбом об Убсунурской котловине. В этом альбоме очень
много моих тувинских снимков.
– А еще меня поразила в вашей квартире одна из двух комнат, превращенная
в ювелирную мастерскую. Вы, оказывается, еще и ювелир.
– Ну, «мастерская» и «ювелир» –
это слишком громко сказано. Просто у меня была приятельница – ювелир. Какое-то
время я была у нее в помощницах, именуясь при этом «Ванька Жуков – девятилетний
мальчик». Кое-чему научилась. Когда она уезжала во Францию, то оставила мне
свои инструменты. Мне достались мотор, горелка, разные плоскогубцы-круглогубцы.
Конечно, очень увлекательное занятие.
Но для этого, как и в фотографии, как и в игре на фортепиано, и даже в работе
«медвежатников», которые вскрывают сейфы, нужна постоянная практика. Тогда чего-то
получается. А если ты делаешь это от случая к случаю, то получается ерунда. Так
что я просто немного «клепаю» подарки друзьям и знакомым.
Но все равно это очень приятно.
Вот сейчас ношу кольцо с лазуритом, которое сама сделала. К двадцатитрехлетию внучки
Ксении мастерю ей колечко с камушком, который она сама выбрала.
– У вас одна внучка?
– У меня еще и правнучка есть –
Анастасия, ей почти три года – дочка Ксении. И второй внук – Андрей. Ему
одиннадцать лет. Это дети моего сына Николая. Николай – архитектор, закончил,
как и его отец, архитектурный институт.
– А как вы сами стали архитектором-реставратором?
– После долгих поисков работы я
несколько месяцев служила внештатным экскурсоводом в Государственном музее
восточных культур, а потом, наконец, меня взяли в штат – в Центральную научную реставрационную
мастерскую, где и познакомилась с Колиным отцом. Потом пять лет была научным
сотрудником в подмосковном музее Абрамцево, а затем – в 1963 году – снова пошла
работать в архитектурно-реставрационную мастерскую, где занималась историко-архитектурным
обследованием Москвы и исторических городов Московской области. Кроме
исследовательских работ выполнила несколько рабочих проектов реставрации
московских памятников конца ХVIII – начала XIX веков.
С 1971 года ездила в экспедиции
по программе «Свод памятников истории и культуры». Этот громадный проект
затеяло в начале семидесятых Министерство культуры РСФСР совместно с Институтом
искусствознания Академии наук СССР. Благодаря ему были обследованы обширные
территории, выявлены и описаны уцелевшие до наших дней, по большей части,
неучтенные культовые, жилые и хозяйственные постройки: и в городах, и в глухих,
часто заброшенных, деревнях. Была в Архангельской, Костромских областях, в
Ненецком округе, на Урале – северо-востоке Челябинской области.
А ВОТ ОБНАРУЖИЛИ!
– А как попали в Туву?
– Сначала, в первый раз, в
семьдесят шестом году, пошла просто в туристический поход по Тодже. Вместе с
Виктором Викторовичем Бугровским (прим.: В. В. Бугровский – 1928-2004 г.г, доктор технических
и биологических наук, профессор экологии, ведущий научный сотрудник Института географии
РАН, Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
научный руководитель Убсунурского международного центра биосферных исследований)
прошли пешком и на лодках маршрут от поселка Хамсара до Тоора-Хема.
А в 1980 году я пошла в Москве
в Министерство культуры, где меня уже хорошо знали, с предложением экспедиции в
Туву, так как она до тех пор в программе свода памятников не участвовала.
Там очень обрадовались,
написали в Туву: просим принять группу. Получили ответ: у нас никаких памятников
нет, нам никто не нужен.
– А, может быть, написавшие тот ответ и были правы: ну, какие памятники архитектуры
можно было обнаружить в Туве? Нет их и быть не могло. И ничего вы обнаружить не
могли.
– А вот обнаружили! В первый раз,
в восемьдесят первом, Министерство культуры РСФСР дало нам командировку от себя
– на разведку. С Виктором Викторовичем Бугровским побывали в Эрзинском, Пий-Хемском,
Тоджинском, Каа-Хемском, Тандинском районах. Помню, как интересно мы попали в
село Сизим. Над Сизимом – такая плоская гора, где в то время был аэродром.
Перед тем, как прилететь самолету, начальник аэропорта готовился: выгонял с летного
поля пасшихся там коров. Оттуда, где на моторках, где верхом, добрались и в
Верховье – в старообрядческие скиты.
В восемьдесят третьем приехали уже
по приглашению министерства культуры Тувинской АССР и уже более тщательно «прочесали»
территорию, а в Верховье добрались до самого последнего скита.
Во время этих обследований
нашли массу интересного. Во Владимировке и Бай-Хааке, например, – амбары в
традициях северной русской архитектуры. В Ужепе – станок для ковки лошадей. В скиту
выше Ужепа – совершенно фантастическую маленькую водяную мельницу. Действующую!
Нигде в России подобной не сохранилось, как не сохранились крытые гумна. А мы
нашли два – тоже в скиту.
В Пий-Хемском районе – очень интересна
усадьба Сафрона Медведева. В самом Туране – церковь Святого Иннокентия, правда,
уже не действующая, а перестроенная в школьное помещение, два хороших деревянных
дома двадцатых годов: тот, где сейчас музей, и дом рядом. А какая школа
упоительная! В Уюке – старые дома и амбары. Очень интересный деревянный дом в
Сарыг-Сепе – на улице Енисейской. В Тора-Хеме – очень своеобразный домик: нечто
переходное между юртой и избой. Около Ильинки – старый ряжевый мост. И это еще не
все!
Так что, как видите, интересные
постройки русских переселенцев, принесших с собой традиционные формы деревянной
архитектуры русского Севера, мы в Туве нашли. Сделали на них паспорта.
Паспорт – это такая подробная анкета,
где фиксируется все: наименование, местонахождение, датировка, строитель,
степень сохранности, стоит ли на охране. К ней прилагается план постройки и аннотированные
фотографии.
Очень интересно было работать над
паспортом юрты с расписной дверью, которую я нашла в Эрзинском районе на летней
стоянке чабанов.
Сделала я паспорта и на все братские
могилы. Кстати, интересно, но очень печально: на месте памятника Красным
партизанам в Кызыле, у Енисея, было три братские могилы. Лишь на одной из них установили
нынешний памятник, а две другие просто сравняли с землей и заасфальтировали.
Увы.
Памятники архитектуры в самом Кызыле
считанные. Самый интересный дом – здание нынешней «Тувапечати» на улице Ленина,
вот это точно памятник архитектуры, сохранившийся от первоначальной застройки
Белоцарска.
– А как вышли на развалины Вернечаданского храма – УстууХурээ?
– Занимаясь этим обследованием,
я неоднократно сетовала на то, что культовых буддийских построек никаких не сохранилось.
И однажды заместитель министра по строительству Кызыл-оол Монгуш, был такой
решительный, инициативный человек, говорит: «А вы знаете, под Чаданом есть
развалины буддийского храма».
И мы с Бугровским рванули в
Чадан!
Это было в 1983 году. Приехали в
Чадан, переночевали в танковой воинской части, которая тогда там располагалась,
а утром поехали за город – искать эти развалины. С трудом нашли – в зарослях
ивняка и облепихи: тогда оросительные канавы на лугу еще не высохли; это сейчас
вокруг руин храма – пустыня. Проемы в глинобитных стенах были заколочены
досками – храм использовался как загон для скота, рядом складировали совхозное сено.
ТАКОГО ХРАМА БОЛЬШЕ НЕТ НИГДЕ В РОССИИ
Мы сделали шагомерный обмер плана,
сфотографировали. В Кызыле, в республиканском музее, я получила две фотографии
храма, сделанные известным краеведом и основателем музея Владимиром Ермолаевым
в 1925 году. Это стало основой для дальнейшей работы. Тогда же написала
докладную министру культуры Серену – о том, что нужно сохранить эти руины, что возможна
даже их реставрация. И в начале следующего года храм получил статус охраняемого
государством памятника архитектуры.
А потом Кызыл-оол Монгуш
загорелся идеей создания архитектурно-этнографического музея под открытым небом
и предложил мне разработать его проект. Предполагалось разместить его в урочище
Чайлаг-Алаак, в нескольких километрах к югу от Чадана, и включить в его
композицию реставрированный храм Верхнечаданского хурээ. Для этого нужно было
более тщательно и детально провести обмерно-исследовательские работы по всем
предполагаемым экспонатам будущего музея. Это, прежде всего, руины храма: он должен
был стать центром тувинского сектора музея. А так же довольно многочисленные постройки,
которые должны были быть перенесены на территорию русского сектора.
И в 1984 году я с тремя
молодыми архитекторами вновь отправилась в Туву.
В этот раз везла с собой в
Верховье часы с боем, специально купленные в Москве для матушки Надежды,
настоятельницы монахинь. Она попросила привезти их в наш предыдущий приезд,
когда я спросила: что им нужно. «Хорошо бы в скит часы с боем, чтобы ночью можно
было, не зажигая огня, знать, когда пришло время молитвы». И я такие часы ей
привезла. А как они благодарили! Классическим земным поклоном, как в опере –
рукою до земли.
Матушка Надежда мне тоже сделала
подарок: домотканую льняную скатерть сумасшедшей красоты – красно- малиновую. Я
ее берегу, не пользую, жалко стелить.
– Но идея этнографического музея под Чаданом так и осталась неосуществленной.
– Да. Ее сочли дорогостоящей,
да и просто нереальной, с учетом местных особенностей. Просто сказали: «Все
сожгут». Так что сегодня об этом проекте уже и говорить не приходится.
А вот проектом восстановления Устуу-Хурээ
я продолжала заниматься. Теперь это кажется смешным, но тогда Министерство
культуры Тувы, хоть и заключило со мной договор, но больше всего боялось получить
за это нагоняй от обкома КПСС.
Знаете, каких только откликов противников
восстановления хурээ я тогда не наслушалась: «Я не допущу этого: восстановить
хурээ – значит усилить влияние китайских империалистов на Туву!», «Что? Эти грязные
ламы? Да не то, что восстановить, а смести бульдозером до основания!» Но мы
продолжали работать над проектом.
– Чем же вас так заинтересовал этот храм?
– Верхнечаданский храм для Тувы
уникален. И для России уникален – таких больше нигде нет, ни в Бурятии, ни в Калмыкии.
Подлинная культовая буддийская архитектура
в Туве практически не сохранилась. Все деревянные храмы в середине тридцатых годов
были уничтожены. Этот, построенный в 1907 году, сохранился только потому, что
нижний ярус его был из землебита. Его стены в основании – полтора метра
толщиной.
Храм соединяет традиции
тибетской и китайской архитектуры. Нижний ярус – это подражание тибетским каменным
постройкам с их мощными, чуть скошенными кверху стенами. Верхний деревянный ярус
с высокой криволинейной крышей – это от Китая. Кстати, крышу верхнего яруса
достроили три года спустя после того, как храм был открыт, то есть в 1910 году.
Такого храма больше нет нигде в России.
Проект реставрации этого
уникального памятника обсудили в Москве, в Институте искусствознания, дали ему
положительную оценку. Потом проект рассмотрел и утвердил экспертный совет
Министерства культуры РСФСР. К девяносто второму был завершен рабочий проект,
сделана сводная смета, где перечислены все виды работ, их объемы, стоимость.
В архитектурной части проекта детализированы
все планы, разрезы, фасады, декор с шаблонами всех резных деталей, даже эскизы
их покраски; в инженерной – система крепления деревянного каркаса и устройство крыши.
Я привозила сюда специалиста по
строительным растворам из Ленинграда. Он взял образцы всех растворов: ленточной
кладки, штукатурного слоя, обмазки. Их проанализировали и определили точное
процентное соотношение ингредиентов: сколько и в каком слое песка, извести,
рубленой соломы, навоза. Так что рецепт раствора есть! Все есть!
– А чего нет?
– Самой малости: денег и
желания.
РАСШЕВЕЛИТЬ ЭТО БОЛОТО
– Я твердо уверена, что первично в этом кратком перечне «нет» все же
желание. Если есть горячее желание, отсутствие денег – не помеха, их всегда можно
найти. Так вот, самое главное – желание действовать – вы ощутили от
государственных структур в Туве?
– Нет, конечно. То есть на
словах все, или почти все, выражают это желание. Но оно настолько зыбко и
прихотливо, что с легкостью переходит в свою противоположность.
Храм Верхнечаданского хурээ
имеет статус памятника республиканского значения, включен в федеральную целевую
программу. В рамках этой программы Москва выделяла деньги на работы по его
восстановлению. Небольшие, хотелось бы больше. Однако худо-бедно, но почти три
миллиона рублей из Москвы было получено, а из республиканского бюджета не было
выделено ни копейки, хотя в договоре есть положение о долевом участии в
финансировании. Министерство культуры Тувы регулярно расписывается под этим обязательством,
но еще ни разу его не выполнило.
– Федеральная целевая программа «Культура России», рассчитанная на 2001-2005
годы – серьезная вещь. Принята она постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 декабря 2000 года – в целях комплексного решения проблем
сохранения и развития культурного потенциала страны, сохранения и эффективного
использования культурного наследия народов России. И финансирование из федерального
бюджета на все мероприятия этой программы было предусмотрено солидное: на пять
лет – 28 миллиардов 408 миллионов рублей.
Использовало ли правительство Тувы все финансовые возможности федеральной
программы для сохранения нашего культурного наследия?
– Увы, увы… Деньги выделялись
не каждый год. Ведь для их получения нужно было ежегодно, в срок, отправлять заявку
на следующий год и отчет о проделанной работе: куда и как потрачены уже
полученные средства. А это делалось не каждый год. То опаздывали с заявкой, то
с отчетом: отчитываться было не о чем – вместо реставрации храма деньги
использовались на другие нужды. Каждый раз приходилось звонить, выяснять,
торопить тувинское министерство культуры.
– Министры при этом сменяли один другого: одного снимали, другого
назначали, третий в Думу уходил, четвертого под суд отдавали. Кстати, скольких же
министров культуры вы «пережили»?
– Пятерых. Серен. Ондар.
Наксыл. Данзын. Сейчас Зоя Баир-ооловна Самдан, с ней я познакомилась, приехав в
Кызыл в этом году. Ну, она-то хоть не встретила меня словами: «Зачем вы приехали?
Мы вас не звали!», как когда-то Ондар.
– Вы прямо наизусть всех помните, в хронологическом порядке. А
действительно, зачем вы приезжаете? Деньги за проект реставрации храма вы давно
получили. Ну и сидели бы себе спокойно на пенсии в Москве. Зачем вам эти
хлопоты, утомительные хождения по чиновничьим кабинетам, палаточная жизнь во
время проходящих в Чадане фестивалях живой музыки и веры «Устуу-Хурээ»?
– Когда Игорь Дулуш, автор
проекта этого музыкального фестиваля, названного в честь храма, в очередной раз
пригласил меня принять участие в фестивале, у меня не было не малейших сомнений
в том, что это надо сделать. Я не могла не поехать.
Конечно, и сам фестиваль мне
очень интересен – это будет третий, на котором я побывала – в качестве
почетного гостя. Но, кроме того, я не могла отказаться от возможности попасть в
Кызыл – в министерство культуры и другие начальственные кабинеты. Не могу сказать,
что мне там бывают очень рады, скорее наоборот… Ведь когда я в Москве, то и
беспокойства от меня меньше, и очень удобно списывать на меня свое бездействие.
Я знаю, как докладывается высокому
начальству: сама Хаславская , мол, виновата – тормозит работу. И проекта- то
вообще нет, и всю документацию она увезла, и смету раздула до астрономических объемов,
а смета это, к слову сказать, составлена в 1992 году, в тех, естественно,
ценах. Да и вообще она здесь мозолит глаза, чтобы себе денежек урвать.
Все это, конечно, неприятно. Однако,
как гласит восточная мудрость, «собака лает, а караван идет». Для меня важно,
чтобы дело не умерло. И поэтому я пользуюсь каждой возможностью, чтобы
расшевелить это болото – глядишь, кроме пустого бульканья что-то полезное сделается.
Федеральная программа «Культура
России » продлевается до 2010 года. Значит, сохраняется надежда на продолжение работ
по реставрации Устуу-Хурээ при финансовой помощи Москвы. А из Тувы даже заявку
на 2006 год не озаботились направить в Министерство культуры России. Почему-то
в Москву пошла заявка на ремонт Самагалтайского хурээ, хотя это просто вновь отстроенное
здание, не имеющее никакого отношения к историческому и культурному наследию. Почему
министерство культуры России должно финансировать ремонт новой постройки?
Когда я узнала об этом за
неделю до окончания срока подачи заявок, пришла в ужас! Пришлось звонить из Москвы
в Кызыл, торопить, ведь если заявка не подается, это значит, что республика
просто отказывается в федеральной программе участвовать, отказывается продолжать
работы по восстановлению Устуу-Хурээ. С трудом и великими сложностями наспех
сделанная заявка в последний день была доставлена в федеральное министерство.
Рассматривать ее планируют в сентябре и, безусловно, ее нужно будет защищать. И
тут могут быть очень полезны дополнительные письма поддержки на имя министра
культуры России от правительства Тувы, депутатов, общественных организаций.
– Значит, надежда на то, что храм будет восстановлен, все же есть?
– Только если само общество
будет активно «давить» на чиновников. А если нет, то все так и будет в болоте.
В этом смысле то, что делает
музыкант Игорь Дулуш со своими единомышленниками, проводя свои фестивали
«Устуу-Хурээ», – это колоссально много. Они активизируют инициативу общества, а
общественный резонанс и контроль – это огромное дело.
В этом году Игорь меня
совершенно потряс, ведь столько трудностей пришлось преодолеть, чтобы фестиваль
все-таки состоялся! Проводили его впервые не в городе, а прямо у стен храма. И
колоссальная работа была проделана. За кратчайшее время заготовили и обработали
лес, из которого построили сцену и многие ряды скамеек для зрителей. Поставили столбы
для электропроводки и ограждения храма. Они пригодятся потом и для обустройства
строительной площадки.
И я готова всем повторять: если
бы все министерские чиновники были бы такими, как Дулуш – со спокойным упорством
добивались решения поставленных перед ними задач и столь же энергично решали возникающие
перед ними проблемы – горы можно было бы свернуть.
Я разговаривала в Чадане с
местными жителями: они уже понимают, что без их личного участия дело с места не
сдвинется. Они готовы хоть сейчас работать на храме, даже бесплатно! Но на
памятниках архитектуры вправе работать только профессионалы-реставраторы, которые
имеют специальное на то разрешение – государственную лицензию. Такая лицензия
получена в Москве Кызыльскими художественно-производственными мастерскими, где
уже выполнены резные детали для храма.
Но подготовительные и подсобные
работы, безусловно, могут делать местные жители. Мы говорили с ними об этом.
Они могут участвовать в перевозке из Кызыла строительных материалов, строительстве
хранилища для них, в обустройстве стройплошадки, чтобы ранней весной следующего
года уже приступить к сборке деревянного каркаса здания.
Ведь сделано уже довольно
много: заложен ленточный фундамент, готовы столбы и балки деревянного каркаса, оконные
рамы и полотнища дверей.
Достаточно всего два-три
плотных года, чтобы полностью закончить реставрацию Устуу-Хурээ. И как
прекрасно было бы сделать это к столетию со дня завершения его строительства. Он
ведь так и строился, когда не было еще никаких механизмов, электрических пил,
подъемных машин – всего за три года.
ИСТОРИЯ ДЛЯ НИХ – ЖИВАЯ
– Да уж. Сто лет назад построили за три года, а процесс восстановления разрушенного
на три десятилетия затягивается. Вилля Емельяновна, раз столько забот и проблем
с этой реставрацией, может, и не нужна она вовсе? Зачем восстанавливать старый разрушенный
храм, когда легче и проще построить новый? Зачем именно этот храм Туве?
– Как зачем? (Замолкает,
словно на время лишилась дара речи из-за абсурдности вопроса). Наверное,
можно было бы ответить просто: это единственный сохранившийся в Туве памятник буддийской
культовой архитектуры. В Туве начала ХХ века это был самый большой и нарядный
буддийский храм. Он будет привлекать в Туву туристов, тем более, что на
территории республики просто нет больше сколь-либо интересных архитектурных
сооружений. Люди приезжают в республику, чтобы приобщиться к прекрасной, еще
почти нетронутой природе, а такой памятник сможет обогатить их впечатления.
Но это узко-прагматичный
взгляд. Честно говоря, и я так думала в самом начале работы. Но чем дольше я
занималась проектом реставрации, чем больше встречалась с жителями Чадана, тем
сильнее во мне росло убеждение в жизненной необходимости восстановления этого
храма, убеждение в значимости его для духовного роста народа.
И еще один немаловажный аспект:
воссоздание храма – это воссоздание истории, а это так важно, чтобы народ знал
и чтил свою историю.
Знаете, в 1992 году я была в
Израиле – в гостях у уехавших туда еще в семидесятых годах моих друзей. Сама я,
к сожалению, не знаю ни еврейской истории, ни языка – только три-четыре слова на
идиш помню с детства, об иврите и говорить не приходится. Увы.
И вот там я поняла, что для
израильтян древнейшая история народа и страны – не что-то далекое, не седой миф,
не имеющий никакого отношения к настоящему. История для них – живая, она органично
входит в сегодняшний день. И не в последнюю очередь формирует их мироощущение.
На лекции по истории страны для
вновь прибывших репатриантов я услышала: «Наш праотец Авраам». Сказано это было
с удивительной интонацией, как если бы говорили не о библейском патриархе, а о
родном дедушке. Запомнился и такой эпизод: мы ехали в машине с Наташей
Щаранской, и она показала мне склеп у дороги, сказав с той же поразившей меня интонацией:
«Это могила нашей праматери Сары».
– Щаранская – известная фамилия. Имеет какое-то отношение к министру правительства
Израиля Натану Щаранскому?
– Наташа, теперь она зовется
Авиталь, – его жена. В семидесятых годах, когда Наташа решила эмигрировать в Израиль,
для молодых людей требовалось согласие родителей на их отъезд. Иначе не
выпускали. Был один выход – выйти замуж, так как тут власть родителей кончалась.
И ей нашли для фиктивного брака Толю Щаранского, уже подавшего документы на
выезд. Он заканчивал тогда Московский физико-технический институт.
Как смеялись друзья, этот
фиктивный брак быстро перешел в эффективный. Однако в результате ей разрешили отъезд,
а ему нет: чтобы не выдал какихто там мифических военно- технических тайн или
«советского завода план».
Когда я в первый раз увидела
Толю – за дватри года до его ареста, знаете, что меня поразило в этом
неброском, небольшого роста молодом человеке? Громадное обаяние, ощущение
спокойной внутренней силы и достоинства. Надо сказать, он в полной мере проявил
их во время своей долголетней отсидки.
(Прим.: Анатолий (Натан)
Щаранский – один их основателей и активистов Московской Хельсинской группы,
созданной в 1976 году с целью осуществления общественного контроля за
выполнением советским правительством международных стандартов в области прав
человека, в соответствии с подписанным им в 1975 году Хельсинским соглашением.
15 марта 1977 года был
арестован, обвинен в сотрудничестве с ЦРУ, измене Родине. Приговорен к 13 годам
заключения. Отсидел 9 лет. Был освобожден 11 февраля 1986 года – под давлением мощной
международной компании по освобождению, возглавленной его женой.
Натан и Авиталь Щаранские были
удостоены высшей награды американского Конгресса – золотой медали Свободы,
присуждаемой за вклад в борьбу против нарушения прав человека).
Наташа очень много сделала для того
чтобы добиться освобождения мужа. Мы даже удивлялись: была такая тихая, очень
застенчивая девушка, а такую международную компанию развернула и все выдержала:
и разлуку, и бесконечные поездки по миру, и бесчисленные выступления. Рассказывали,
что когда самолет, на котором привезли Толю после освобождения из тюрьмы в
Израиль, приземлился в ТельАвиве, ему даже на землю не дали ступить:
встречающие несли его до машины на руках.
Я гостила у них в Иерусалиме в девяносто
втором. Было так приятно увидеть вновь эту семью, сохранившую, не смотря на
годы разлуки и всяческих трудностей настоящую человеческую близость – любовь и
взаимопонимание. У них две дочери-погодки: Рахель и Хана. Тогда они были еще
малявки – забавные и очень умненькие.
Я НЕ БЫЛА АКТИВИСТКОЙ ДИССИДЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
– Интересный у вас круг знакомых и друзей. Вы тоже были в свое время
диссиденткой?
– Если понимать под этим словом
неприятие двойной морали и отвращение к тому морю лжи, в котором мы все
вынуждены были жить, то да, и еще раз – да!
Я не была активисткой
диссидентского движения: не выходила на площадь, не подписывала протестных писем,
но и не кричала никогда «Ура, ура!», поддерживая фальшиво-патриотические
лозунги.
Не из чрезмерной осторожности.
Может, темперамента не хватало…
Работала себе и работала,
стараясь делать это честно.
Я не была исключением.
Практически все, кого я знала и у кого в голове, да и в душе, хоть что-то было,
думали и чувствовали так же.
Круг людей, в которыми я
общалась, это по большей части гуманитарии: филологи, историки, искусствоведы.
Многие из них уезжали тогда из СССР, хотя это было сопряжено с трудностями – и
моральными, и материальными. Почему я сама не уехала? На то было много причин,
прежде всего – семейные обстоятельства.
Знаете, когда мы в семидесятых
провожали своих друзей в эмиграцию, было ощущение, что провожаем их на тот
свет. Ни малейшей надежды, что когда-нибудь увидимся. Грустное было время.
Мой университетский друг Игорь
Голомшток в семьдесят втором году уезжал в Англию. Именно тогда приняли закон о
налоге на уезжающих, по которому они должны были возмещать государству
стоимость высшего образования, полученного в СССР. Годы, отработанные после
окончания вуза, в расчет при этом не принимались. Закон этот просуществовал
всего пару месяцев, но Игорю и его жене успели насчитать, помнится, тридцать
две тысячи рублей. Вы представляете, что такое тридцать две тысячи в начале
семидесятых?
Мы все – и в Москве, и в
Ленинграде – собирали ему на отъезд. Собирали и за рубежом. Пикассо передал
какую-то крупную сумму: ещё в начале шестидесятых Голомшток в соавторстве с
Андреем Синявским написал о нем книгу. Это была первая в Союзе публикация после
десятилетий глухого замалчивания или охаивания имени художника.
Но во всем можно найти смешное.
Помню, как мы, несколько игоревых друзей, сидели у него на кухне, где на
большом круглом обеденном столе высился ворох денег. И мы бесконечно долго
пересчитывали эту гору бумажек. Потом все это сложили в чемодан и в сопровождении
двух рослых спортивных молодых людей – для безопасности – поехали сдавать в
Центральный банк. А там заворожено глядели, как барышня-кассир буквально за
несколько минут – одна и вручную – пересчитала то, над чем мы сообща трудились
все утро. Окончание этого мероприятия мы весело отпраздновали в ближайшем
ресторане и дружно хохотали, сравнивая свои нудные счеты-пересчеты с виртуозным
мастерством кассирши.
В Англии, где он живет до сих
пор, Голомшток сотрудничал на Би-БиСи, вел обзоры по искусству. Так что мы
регулярно слушали его «вражеский голос».
Из-за этого у меня однажды
внезапно отключился и так целых три с половиной года промолчал телефон.
Случилось это после того, как я упомянула в телефонном разговоре о
приближающемся дне рождения пятилетнего сына Игоря и о намерении друзей
собраться у меня, чтобы отметить это событие и позвонить в Лондон с поздравлениями.
На следующий день телефон
замолчал.
Пошла разбираться на телефонную
станцию. Районный начальник на мой вопрос «Почему?» ответил:
– Вы пользовались телефоном не
по назначению!
– Я не понимаю, что значит – не
по назначению? Я что, играла им в футбол или бросала из окна на головы
прохожих?
– Не-е-ет, вы понимаете!
Три с половиной года телефон
молчал, хотя я исправно платила за него, пока не написала заявление на имя
Генерального прокурора. Телефон заработал.
Хотя это еще ничего. А вот до
пятьдесят третьего…
Когда мы учились на первых
курсах университета, многие музеи Москвы фактически не работали по своему
прямому назначению. В них была размещена гигантская выставка подарков Сталину в
честь его семидесятилетия.
Это в значительной степени
лишало студентов искусствоведческого отделения необходимого учебного материала.
По этой причине мы – несколько человек – стали собираться в доме у нашего
однокурсника, у которого была прекрасная библиотека по искусству и возможность
доставать уникальные альбомы с репродукциями произведений западноевропейской
живописи. Мы рассматривали репродукции, говорили об искусстве, делали небольшие
доклады, в которых, возможно, позволяли себе кое-что критиковать. Года два с
лишним продолжались эти своего рода семинары, подобные тем, что в наши дни
устраивают все, кому не лень. Но тогда…
В начале пятьдесят третьего один
из пациентов мамы Игоря Голомштока, которая работала врачом в некоей
ведомственной поликлинике, сказал ей в благодарность за успешное лечение своей нервной
системы: «Предупредите своего сына, чтобы он больше не ходил в этот дом, эти
собрания давно взяты на заметку». Игорь рассказал об этом мне. Это было
ощущение не из приятных. Альтернатива: не пойти – стыдно, а пойти – страшно.
Понимаете? Ведь любое неофициальное собрание тут же, не долго думая,
квалифицировалось как антисоветское. Пошла…
Тут, к счастью, великий вождь
помер, и стало немного легче. Если бы не это, все мы уехали бы в разные не
столь отдаленные места.
ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО НАДО
– Да, Вилля Емельяновна, я понимаю ощущение той девочки-студентки, которая
нашла тогда в себе силы все же пойти – не испугаться. Не отступить.
Девочка та прожила большую жизнь и вот сейчас снова не отступает, не
давая покоя безразлично-ленивым чиновникам. Только, не смотря на ваши
многочисленные выступления на телевидении, в прессе, многие вас до сих пор не
понимают. В силу своей ограниченности просто не в состоянии понять: ради чего
эта московская пенсионерка, даже не буддистка, так старается ради чаданского храма,
в чем здесь ее личная выгода?
Так объясните им, Вилля Емельяновна, зачем же вы возложили на себя этот
груз ответственности за восстановление УстууХурээ? Зачем вам это надо?
– Зачем это мне надо?
Понимаете, когда вы занимаетесь
чем-то, вы начинаете любить это. Даже если это просто маленький крестьянский
дом: вы его обмеряете, чертите и … любите. А Верхнечаданский храм я люблю
особенно: столько лет жизни с ним связано, столько сил я в него вложила.
Почему я еще так воюю за
Верхнечаданский храм? Потому что это придает осмысленность жизни. Когда я
представляю себе воссозданный храм: белые стены, красные колонны, разноцветные карнизы
и наличники дверей, коричневую, под черепицу, крышу и венчающий ее ганжир –
сосуд веры, я вижу, как это будет красиво. И как это будет радовать людей, сделает
их жизнь осмысленней и чище.
Храм будет стоять и после меня…
Но все-таки хочется, чтобы это случилось еще при моей жизни…
Мне, к сожалению, уже немало лет.
И что-то довести до конца, чтото разумное сделать – это так важно. Для каждого.
Беседовала Надежда АНТУФЬЕВА
Фото из архива редакции и из
личного архива В. Е. Хаславской
(«Центр Азии»
№№ 33, 34, 19, 26 августа
2005 года)
Фото:
1. С родителями. 1931 год.
2. С младшей сестрой Тамарой в Чернигове.
1939-1940 годы.