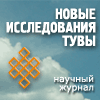«Здравствуйте! У микрофона «Радио России» – Сергей Маркус». Так каждую среду в 21 час 10 минут по московскому времени начинает из московской студии редактор религиозных программ государственного радио авторскую передачу «Вера-трек. Духовные искания нового века», услышать которую могут не только жители России, но и всего мира.
«Здравствуйте! У микрофона – осужденный восьмого отряда Маркус Сергей Владимирович». Так 18 лет назад начал он свою первую радиопередачу «Берег», имевшую гораздо более узкую аудиторию, ограниченную высоким забором с несколькими рядами колючей проволоки. Транслировалась она только на территорию учреждения ЯФ – 306/1 – исправительно-трудовую колонию общего режима, а по-простому – зону. Здесь, в кызыльской зоне на правом берегу Енисея, и получил московский зек первый радиожурналистский опыт...
Вышел он из колонии в апреле 1986 года, а летом 2003 года, спустя 17 лет, вновь вернулся сюда. Насыщенной получилась июльская недельная командировка в Туву: интервью с Главой Правительства РТ Шериг-оолом Ооржаком, с министром культуры Эресом Данзыном, выступление на местном телевидении, участие в жюри Пятого международного фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», информационным спонсором которого, благодаря инициативе Сергея, стало «Радио России», беседы с ведущими деятелями тувинской культуры. И... визит в родную колонию. Нечто, напоминающее встречу выпускника с родной школой, только с особым колоритом: не «я здесь учился», а «я здесь сидел»...
Вы не поверите, но даже первая встреча в кабинете начальника колонии имела некий трогательно-ностальгический оттенок, правда, с привкусом Уголовного кодекса. Не успела я открыть рот, чтобы представить столичного гостя, как подполковник Ситников, чуть усмехнувшись, остановил меня: «Не надо представлять. Прекрасно помню! И имя, и фамилию, и статью. Четверо детей было. Отец – ветеран, приезжал на свидание – вся грудь в орденах...»
Я удивилась. А Сергей, кажется, даже растрогался, совсем не ожидая, что здесь, спустя столько лет, вот так узнают его – с полувзгляда. Да, острый, наметанный взгляд и цепкая память у бывшего оперативника, дослужившегося до начальника колонии – Александра Степановича Ситникова.
В моей памяти тоже всплывает образ семнадцатилетней давности: худая высокая фигура, кирзовые сапоги, чёрная роба с явно коротковатыми рукавами. Освободился и пришел к нам в гости «тот самый Маркус», о котором много рассказывал супруг Евгений, возвращаясь с работы.
 Само общение со «специфическим контингентом» – не сахар: есть опасность и самому духовно опуститься, ограничив восприятие жизни пространством за колючей проволокой и упиваясь собственной властью над заключенными. Евгения Владимировича спасала поэзия. Многое из бесед с осужденными легло в его стихи. (Прим.: Е.В.Антуфьев работал в системе исправительных учреждений МВД с 1980 по 1993 год, ушел на пенсию по выслуге лет в звании майора, автор поэтических сборников «Два возраста», «Опасная зона», «Распятие», «Беспредел», член Союза писателей СССР, Союза писателей России).
Само общение со «специфическим контингентом» – не сахар: есть опасность и самому духовно опуститься, ограничив восприятие жизни пространством за колючей проволокой и упиваясь собственной властью над заключенными. Евгения Владимировича спасала поэзия. Многое из бесед с осужденными легло в его стихи. (Прим.: Е.В.Антуфьев работал в системе исправительных учреждений МВД с 1980 по 1993 год, ушел на пенсию по выслуге лет в звании майора, автор поэтических сборников «Два возраста», «Опасная зона», «Распятие», «Беспредел», член Союза писателей СССР, Союза писателей России).
Два обитателя «правого берега» в середине восьмидесятых выделялись в ИТК-1 и необычными статьями, и интеллигентностью, и кругозором. Это Сергей Маркусиз Москвы и Евгений Лернер из Владимира, пришедшие сюда каждый со своим этапом и здесь нашедшие общий язык друг с другом и с призванным «перевоспитывать» их капитаном Антуфьевым. Лернер – кришнаит, «погоревший» на увлечении Востоком и пропаганде учения кришнаитской ветви древнего индуизма, отсидев часть срока, был отпущен на так называемое УДО – условно-досрочное освобождение, и был обязан отрабатывать оставшуюся часть в Кызыле – под надзором органов внутренних дел. Работал он в вычислительном центре. Часто, остро ощущая свое одиночество в Кызыле, приходил он вечерами в нашу тогдашнюю избушку-развалюшку: там, под треск вечно дымящей печки один Евгений – «гражданин начальник» читал свои стихи, а Евгений-зек рассказывал о любимом философе Бахтине, его философии карнавала, о загадках Востока. Он мечтал о компьютерной мультипликации и тувинских мультиках, а также о компьютеризации всего мира, во что мне тогда верилось с трудом, а ведь сбылось же... Сейчас он живет в Нью-Йорке, где воплощает некоторые кызыльские идеи в жизнь и регулярно – с периодичностью раз в три года – дает знать о себе по электронной почте.
Женя Лернер и привел к нам весной восемьдесят шестого освободившегося Маркуса– проститься перед возвращением в Москву. Не знающий Кызыла Сергей вряд ли бы нашел в лабиринте покосившихся заборов наш «дворец». Нет, все-таки забавно выглядел он тогда в том выпускном прикиде, с короткой стрижкой «а ля зона» – контрастом с интеллигентными манерами благовоспитанного столичного жителя и вежливо-грамотными фразами.
Частенько мы потом вспоминали Маркуса. Евгений Владимирович вставил его четверостишие «Через неделю, как меня судили...» в свой рассказ в письмах «Здравствуй, милая...», написаный по мотивам бесед с обитателями кызыльской колонии. Сделал сноску: «Стихотворение Сергея Маркуса».
Как-то вечером, уже в начале девяностых, вдруг кричит из кухни мне, занимающейся в комнате с детьми: «Скорей, скорей иди сюда! Маркус выступает!» Это была одна из первых радиопередач Сергея о вере, которую он начал вести на всероссийском радио. Переглянулись понимающе: как быстро изменилась жизнь, за что сидел, о том теперь на всю страну вещает. Я торжественно-шутливо произнесла речь: вот, мол, ты, как его первый редактор, можешь гордиться воспитанником, начавшим карьеру на радио для зеков, а теперь ставшим профессиональным радиожурналистом.
...Им не довелось встретиться вновь. Евгений Владимирович умер 18 апреля 2003 года, как раз тогда, когда Сергей Владимирович принимал решение о том – ехать ли в командировку в Туву, отложив все другие дела, или не ехать? Решил: еду. И, прилетев, первым делом попросил меня отвезти на могилу Евгения Владимировича. Съездили втроем: Маркус, я и сын. Сергей положил цветы. Помолчали.... Ну вот, самые тяжелые и трудные строки позади. Теперь будет уже легче.
...А потом был долгий разговор за чаем. Маркус«второго прилёта в Кызыл» оказался увлеченным и многогранным собеседником. Его мысль могла в любую минуту плавно скользнуть от арабской каллиграфии к апостолу Павлу, потом повернуть к проблемам музыкального фольклора, коснуться особенностей болгарской поэзии и притчевой тонкости модного ныне в столице «Алхимика» Пауло Коэльо, задержаться на тайнах чая и древней китайской культуры, а затем остановиться на Евангелии и Коране, затронув при этом спорные вопросы трактовки деяний Николая Второго в частности и проблем российской истории в целом.
Нужно было быть искусным лоцманом, чтобы вывести беседу из интеллектуальных водоворотов, осторожно миновав очередной философский айсберг и не утонув в вечных темах. Хоть и с большим трудом, но мне удалось справиться с этой нелегкой задачей, придерживаясь строго намеченного курса – темы, которую, будь я деятелем науки, задумавшим поразить ученый мир заумной диссертацией, сформулировала бы примерно так: «Конструктивная роль тюремно-зоновского опыта и, в частности, кызыльской исправительно-трудовой колонии №1 в расширении кругозора и становлении мыслящей личности, в формировании оптимистическо-философского отношения к жизни и демократических тенденций российской журналистики».
Ну, как вам тема? Мы с Сергеем тоже посмеялись. Именно это качество ценю я в людях: умение без жалоб, без злобы, без самоистязания или самолюбования переживать и оценивать трудные периоды жизни. Немного спокойной иронии, чуточку философского юмора по отношению и к самому себе, и к происходящему... Очень помогает не сломаться. Как тот краб, что помог выжить в тюремной камере. Но о крабе – чуть позже. Сначала – о столь важном для любого осужденного – о статье.
ЗА МНОЙ ПРИШЛИ РАНО УТРОМ 9 ЯНВАРЯ
В Уголовном кодексе РСФСР того времени было 269 статей. Это по нумерации. На самом деле было гораздо больше. После третьей сессии Верховного Совета РСФСР пятого созыва, принявшей 27 октября 1960 года Уголовный кодекс РСФСР, в разные годы Указами Президиума Верховного Совета вводились новые статьи, появление которых обуславливалось меняющимися «требованиями времени». Новые статьи нумеровались дополнительной маленькой цифрой наверху.
Одна из этих дополнительных статей с цифрой – 1901 – досталась Сергею Маркусу. Введена она была в 1966 году, с полным окончанием «хрущевской оттепели», одновременно со статьями 1902 («Надругательство над Государственным гербом или флагом») и 1903 («Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок»). Находить эти статьи-прим нужно было между статьями 190 («Недонесение о преступлениях») и 191 («Сопротивление представителю власти или представителю общественности, выполнявшему обязанности по охране общественного порядка»). Называлась же статья 1901, открывавшая главу девятую «Преступления против порядка управления», так: «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй».
– Сергей Владимирович, как же вы получили эту диссидентскую статью?
– Чекисты того времени грамотно со мной сработали. Они знали, что я – ученик православного священника Александра Меня. Знали, что у меня – четверо детей (прим.: старшему, Даниле, было семь лет, затем шли Михаил и двойняшки Агния и Никита). Что же они во мне увидели ? Очевидно, некоего интеллигентного хлюпика-историка, который читает в музее Коломенское лекции о древнерусском искусстве, об иконах. Замысел был таков: уложить этого человека на бетонный пол вместе с уголовниками – и делай с ним потом все, что хочешь.
Такие варианты у них срабатывали. На многих производил впечатление уже только вид наших КПЗ. Для меня же это было «привычно». С подросткового возраста я готовил себя к кочевой жизни – ездил в туристские лагеря «Кочевник». Поставить палатку, спать на земле, пройти пешком километры с рюкзаком.... Для меня, московского мальчика из интеллигентной семьи: папа – инженер, мама – фармацевт, учившегося в филологической спецшколе при МГУ, где по утрам читали на древнегреческом «Илиаду», походы с «Кочевником» были исполнением программы мужественности. И кочевая закалка пригодилась – в шести тюрьмах, на железнодорожном этапе сроком в месяц и в колонии на берегу Енисея.
В целом же мой арест был частью операции против отца Александра Меня. Вот кто для них был и интересен, и опасен. Я-то что? Мне тогда было 28 лет. Кто я такой? Ну, искусствовед; ну, читаю лекции молодежи; ну, организовал в Коломенском фольклорный фестиваль (он, кстати, до сих пор проводится), ну веду даже подпольную группу – 12-15 человек, с которыми занимаюсь христианской практикой....
– Подпольную?
– Да. Тогда запрещалась любая религиозная активность, кроме совершения обрядов в храме – только с зарегистрированным священником и в определенные часы. Но подпольное движение существовало во всех религиях – я уже тогда со многими общался. Не знаю, насколько Лубянка знала про все мои контакты, но они порешили, что «с этим парнем стоит поработать». Поработать, чтобы я потом, видимо, дал показания на отца Александра. Ведь им надо было его прижать: он был фигурой крупного масштаба, писал популярные книги о религии и публиковал их не только в Самиздате, но и нелегально в Бельгии. Его книга об Иисусе Христе «Сын человеческий» была настольным чтением для верующей и неверующей интеллигенции того времени. Действительно, это замечательная книга, которая до сих пор жива и действенна.
Отец Мень был «человеком мира», православным богословом широкого диапазона, сторонником соединения церквей, и нас учил этому. Он общался с католической церковью, с политическими диссидентами, с Солженицыным до его высылки. Он был идеологически опасен для того строя. И вокруг него все больше и больше объединялось молодежи.
Я же был одним из активистов, расширявших его паству. Из-за перезагруженности отца Александра многие уже не могли с ним лично общаться. И, осознав это, он подготовил группу помощников, которые, пройдя стажировку, стали вести молодежные группы по 12 человек – маленькие общины, в традициях раннего христианства, где братья и сестры по вере помогают друг другу в освоении религиозных знаний, в решении социальных проблем, в материальных нуждах.
Я вел такую группу около пяти лет, людей в ней становилось все больше и уже подумывало том, чтобы подготовить человека для руководства еще одной группой, когда «за мной пришли». Пришли рано утром – на рассвете 9 января 1984 года, подняв с постели... Странные пересечения постоянно связывают меня с историческими датами: помните 9 января 1905 года, Кровавое воскресенье...
– А вы ждали, что могут прийти?
– Да. Ждал. И, конечно, я играл с огнем. И в этом реализовалась моя немудрость, назовем ее даже точнее глупостью: это – конфронтация с государством. Когда человек дразнит огонь, он на него и обрушивается. И я получил то, что провоцировал. И в этом смысле первым действующим лицом было даже не КГБ, которое меня выслеживало и арестовывало, а я сам, дразнивший государство и заставивший посадить себя за решетку.
– Вас привезли на Лубянку?
– Нет, избави Боже. Я был не столь высокого полета птицей, чтобы со мной Лубянка занималась в своих прославленных стенах. Конечно, отслеживало ситуацию подразделение КГБ, занимавшееся вопросами религиозного диссидентства, а непосредственно разбиралась местная прокуратура. Кстати, меня поразила следователь, которая со мной работала. Эта Ольга Леонтьева была чудовищно безграмотна, задавала нелепые вопросы...
Я ясно увидел тогда: брежневская социалистическая система была настолько внутренне гнилой, что всем было лень работать. И простые работяги, и чиновники делали вид, что работали, имитировали деятельность.
Брежневские следователи, милиционеры, эксперты – все халтурили. На меня была написана совершенно безграмотная, так называемая религиеведческая экспертиза. Некий Дмитрий Гаркавенко, доктор философских наук из Киева, автор многих атеистических книг, настрочил аж двести машинописных страниц, которые я с удовольствием читал, когда сидел под следствием в «Матросской тишине». Этот эксперт определил, что я являюсь «агентом международного экуменического центра по объединению религий», почему-то базирующегося в США. Я даже и не знал, где же такой центр имеется. Он писал также, что я «исповедую и распространяю среди советской молодежи идеи православия, католицизма, лютеранства, пятидесятничества, баптизма, адвентизма, монархизма, западной демократии, антисоветчины и так далее...»
Совершенно фантастический текст! Как человек может пропагандировать одновременно западную демократию и монархию, православие и баптизм? Сумашествие какое-то...
А вот Гаркавенко все это написал и привел кучу цитат из книг, изъятых... даже не из моего дома (я предполагал, что может быть арест и держал дома только Библию), а из огромной библиотеки моего товарища – Андрея Бессмертного.
Я потом даже с адвокатом делился: как могла появиться такая экспертиза? Он объяснил: очень просто, эксперту же за страницы платят – чем больше страниц, тем больше получит. И все сразу стало понятно.
Из «Матросской тишины» я написал «Открытое письмо» мировой общественности, Папе Римскому, в ООН. К адресатам оно не попало, а легло почему-то на стол к следователю, что мне и на суде припомнили: не прекратил, мол, своей незаконной деятельности. Так я понял, что по неопытности передал письмо в камере через стукача. Позже, уже в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я научился посылать письма на волю: передал блок своих литературных писаний – стихи, рассказики. И они прошли нормально.
О ЯПОНСКОМ КРАБЕ В РОССИЙСКОЙ ТЮРЬМЕ
– О ваших стихах из тюремной камеры... Знаете, осужденные не раз давали Евгению Владимировичу собственные стихи, рассказы – в заключении ведь частенько проявляется стремление к литературному творчеству. Он внимательно читал, оценивал, но был строг – всегда строго относился к поэзии, к каждой строчке, каждому слову. Он и меня сразу отвадилот писания стихов такой критикой: это не поэзия, это просто рифмованные строчки, здесь нет образа... А вот четверостишие о Такубоку и крабе он очень ценил. И мне эти изысканные «японские строки» впечатались в память. Интересно, что всегда вслед за вашей фамилией у меня из подсознания появлялся образ: мрачная камера-одиночка, сгорбившаяся фигура на нарах и вдруг – какой-то свет в темном углу.
Царапнул меня за душу ваш краб, хотя я, склонная к конкретному мышлению, семнадцать лет так и не могла понять: что делал японский краб в российской тюрьме? Хоть сейчас раскройте же образную загадку этих строк:
Через неделю, как меня
судили,
Ко мне пришел печальный
Такубоку
В сырую камеру.
И краба подарил...
– Я был осужден в день своих именин – в день Преподобного Сергия Радонежского. После суда, после этого стресса, когда мне дали максимальный по этой статье срок – три года, я вошел в огромную камеру Краснопресненской тюрьмы: середина лета, жара чудовищная, множество мужских тел, и все раздеты, и ото всех пар валит, на бетонном полу – вода...
И тогда я вспомнил прожившего всего 26 лет романтического юношу Исикаво Такубоку, которого японцы любят как своего великого поэта. Я вспомнил его стихи, которые расшифровываются примерно так: «Предо мной только огромный океан, рядом на берегу только камни, я одинок. Из-под камня вылезает краб, и я вижу, что он живет здесь – среди этих камней, которые мне показались мертвыми, на берегу этого, казавшегося чужим, океана. Краб, дорогой, ты мой брат, ты мне помог полюбить этот берег, этот океан, эту жизнь».
Когда мне вспомнился краб Такубоку, я понял, что и здесь, в душной камере-бане Краснопресненской тюрьмы, можно жить. Ну не краб, так какой-нибудь тараканчикили клопик вылезет, клопов было много в тюрьмах, они по-своему счастливы, и мы можем у них научиться (улыбается). Надо жить здесь и сейчас – и уметь быть счастливым здесь и сейчас. Камера, конечно, не стала мне родной и близкой, но, по крайней мере, я смог в ней жить своей жизнью.
Известно ведь, что искусство имеет психотерапевтическую силу, помогает человеку снимать стрессы. И тюрьма – тому наглядный пример. Почему зеки начинают сразу же вспоминать о своих художественных навыках? Сразу же из каких-то веревок делаются струны, из табуретки – гитара.
Cуществует особая тюремная субкультура. Удивительные поделки рождаются из самых невероятных материалов. Многие делают замечательные фигурки, переплавляя на огоньке спички полиэтиленовые пакеты. Или еще: черный хлеб низкого качества пережевывается, раскатывается, и из этой массы лепятся изощренные бусы, цветы, фигурки животных. Часто такие шедевры дарятся надзирателям, офицерам, которые приходят от них в восторг.
Казалось бы, человеку за решеткой бывает голодно, но он не ест хлеба, а делает из него маленькую скульптуру. Не хлебом единым жив человек...
Думаю, если бы кто-то серьезно задался вопросом: как реально перевоспитывать и гармонизировать людей в заключении, то пришел бы к выводу: с ними надо заниматься искусством! Но подобные замыслы требуют и хороших денег, и хороших специалистов. Их нет, поэтому сегодня колонии и тюрьмы – не «алхимическая лаборатория» перевоспитания и превращения черного железа в золото, а скорее лишь загон, где человек временно блокирован в своих преступных инстинктах.
КАК ПРАВИЛЬНО ВОЙТИ В ТЮРЕМНУЮ КАМЕРУ
– Искусство помогает многое перенести, согласнас вами. Помню, когда рожала первенца, то, чтобы не кричать от боли, пыталась читать наизусть «Евгения Онегина». Но, чтобы выжить в камере, не только психологически, но и физически, надо, полагаю, еще и правильно себя «поставить», знать правила поведения?
– Существует особый тюремный этикет, не знаю, сохраняется ли он сейчас. Думаю, что да. Когда входишь в камеру, в любую, сначала надо называть не имя, не фамилию, а свою статью. На всякий случай рассказываю, вдруг кому-то пригодится, не дай Бог.
– Очень может быть. В жизни все пригодиться может. От тюрьмы да от сумы не зарекайся – так народная мудрость гласит.
– Так вот, когда ты под следствием, называй только статью, а когда осужден – еще и срок. Заходишь в новую для тебя камеру, принимаешь суровый уверенный вид и говоришь: «Статья сто девяносто, один – прим. Три года».
После того принимается решение, куда тебя положить: на хорошее место или к параше, что на всю жизнь тебя унижает, делает парией. Поэтому первое появление в камере столь важно.
– Соврать нельзя?
– Ха! Попробуй! Когда тебя потом вызывают из камеры, надзиратель обычно выкликает фамилию и статью.
Дела твоего никто из зеков не видит, ты можешь про него рассказывать любые байки, а вот статью знают все.
На слух номер статьи воспринимается как 191 или 1911, а это – сопротивление представителю власти, милиционеру, дружиннику. Эти статьи от Москвы до Кызыла хорошо знали. «Ты че, с ментами что ли дрался?» Идиот, мол, какой-то, такая глупая статья...
– Ребята, вы что, Кодекс не знаете? Говорю же: один – прим! – я уже научился играть и по-своему даже забавлялся ситуацией. Времени в камере много и отношения надо правильно выстроить, себя показать.
Все сразу озадачено замолкали и начинали судорожно листать Уголовный кодекс. Находили нужное:
– А, вот ты какой! А как ты им вмазал, этим коммунякам?
И вспыхивал антисоветский восторг. Сначала я был даже в недоумении. Тогда снова всех разочаровывал:
– Ничего я не вмазал, я против них ничего не имею. Я, ребята, за религию.
– А... – и тут все снова удивленно замолкали.
В советское время информация о религии вообще была нулевая. О том, что кроме бабушек в платках и с куличами, есть другие верующие, большинство даже не представляло. А тут – здоровый, рослый молодой мужик. Да еще и в черной морской офицерской шинели – ее мне брат жены подарил, и я в ней ходил по Москве. И она, теплая, удобная, немнущаяся, выручала меня во всех КПЗ. Вспоминаю ее с нежностью. Я с ней в Свердловской тюрьме только расстался, выменяв на потёртую бывалую телогрейку. Мне объяснили: «Шинель в зоне все равно не пригодится. Лучше отдай тому, кто скоро освободится. Так принято». Я так и сделал: нашел освобождающегося парня, и мы с ним поменялись. Это очень важно для выходящих на волю: прийти домой в цивильном виде. На любого тюрьма накладывает особый отпечаток. Я понял, что и моя фотография, которую в листок освобождения вклеили и которую берегу, до сих пор хранит огромную тяжелую энергию зоны...
И еще один совет из моего опыта: все-таки шесть пересылок и зона. За все это время я ни разу не ругался матом. Сначала я думал, что по этой причине окажусь белой вороной. Нет! Так что мой опыт говорит: человеку совсем не обязательно снимать стресс ни алкоголем, ни курением, ни матом.
КАК МАРКУСА ПУГАЛИ ТУВИНСКОЙ ЗОНОЙ
– Чтобы с волками жить, совсем не обязательно по-волчьи выть? Полезный совет. Сергей, а почему вас отправили именно в Туву?
– По старой российской традиции «политических» и «религиозников» посылали как можно дальше, чтоб наказать посильней. И старались размещать отдельно друг от друга. На всю зону, около тысячи человек, нас таких было двое – я и Женя Лернер. До нас, рассказывали, был еще какой-то протестант, кажется, из баптистов.
О Туве я ничего не знал, и первые консультации мне давали уже на этапе, в пересыльных тюрьмах: сначала в Свердловской, потом в Новосибирской и Ачинской. И перспективы рисовали по-разному. Одни называли меня счастливчиком: будешь сидеть в национальной зоне, где более мягкое отношение к зекам, лучше кормят, не придираются, как в России. Единственное исключение – зоны Украины, туда не советовали попадать, говорили, что худшего «гестапо» во взаимоотношениях с офицерами и охраной не бывает. Вот такая градация сложилась в уголовном мире: почти невыносимо сидеть на Украине, терпимо, но тяжело в России, и почти что хлеб да соль – в национальных автономных республиках и областях.
Другие, напротив, уверяли, что тяжелее будет: унижения, конфронтация, стычки с тувинцами. «Да тебя там по стенке размажут! Тем более, что ты москвич, а москвичей вообще нигде не любят».
Последний инструктаж я получил в Минусинскойтюрьме: в Кызыле на тебя будут садиться, как на коня, и ты будешь как миленький возить их в столовую. «Как это так – везти в столовую? Я не соглашусь!» «А кто там твоего согласия спросит?»
Вот такой противоречивый инструктаж я получил на этапе. И, естественно, думал об этом, когда созерцал Туву из иллюминатора самолета... Да, мое первое впечатление – ослепительные снежные горы, красота божественная, горы хрустальные! Я даже представить не мог, что зеков перебрасывают на самолетах, а тут нас на «Яке» из Абакана за госссчет прокатили над Саянами! А вторая моя поездка в Туву состоялась уже благодаря Александру Юрьевичу Кожинову, директору авиакомпании «АстЭйр», осуществляющей единственный прямой рейс из Москву в Туву.
Первое время, прибыв в колонию, ходил, оглядываясь и удивляясь: почему на меня никто не нападает, почему не слышу, что в другом отряде что-то страшное происходит? Конечно, нельзя сказать, что все было розовым: зона есть зона, уголовники есть уголовники, но меня никакой беспредел не коснулся.
Лишь один раз я получил кулаком в мордуот какого-то тувинского парня. Он просто мимо проходил (смеется)... Я понял, что его захлестнул всплеск внутренних переживаний: может быть, он в этот момент не мог решить какую-то алгебраическую задачу или подумал, что Гегель был неправ... Вот и решил на мне отыграться. Жаль, но я не успел ему дать сдачи, погнался, но он куда-то исчез...
(Начало. Окончание в №44)